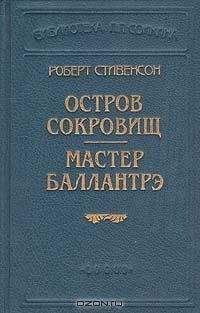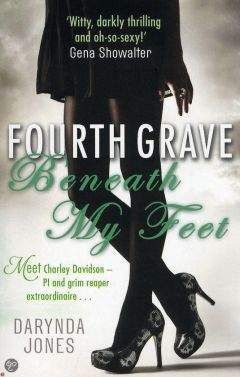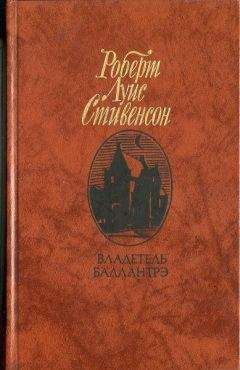— Саиб не понимает английского языка, а насколько я могу понять, вы ошиблись и приняли саиба за кого-нибудь другого. Это часто бывает. Но только саиб желал бы знать одно: каким образом вы попали к нему в сад?
— Баллантрэ, — закричал я, — черт тебя возьми, неужели ты станешь отрицать, что ты меня знаешь? Неужели ты осмелишься сказать мне это в лицо?
Баллантрэ ничего не ответил, ни один мускул его лица не дрогнул, и он смотрел на меня в упор таким бессмысленным взглядом, словно индийский идол, сидящий в храме.
— Саиб не понимает английского языка, — сказал снова туземец. — Он желал бы знать, каким образом вы попали в сад?
— Черт бы его побрал, вашего саиба! — закричал я. — Он желал бы знать, как я попал к нему в сад? Он? Ну, хорошо, милый человек, в таком случае будьте любезны передать вашему саибу, что перед ним стоят два храбрых солдата, и что оба они люди отнюдь не злые, напротив, очень добродушные, но что если саиб добровольно не даст им чалмы, туфель и приличную сумму денег, то они заставят его это сделать.
Но, несмотря на мою угрозу, Баллантрэ продолжал играть комедию и довел ее до такого совершенства, что начал говорить со своим товарищем на индостанском языке, и туземец снова, глядя на меня с улыбкой, в третий раз, но теперь уже как бы нехотя, повторил:
— Саиб желал бы знать, каким образом вы попали в сад?
— Ах, стало быть, вот вы как! — сказал я, взявшись за рукоятку меча и велев своему спутнику сделать то же.
Туземец, все еще улыбаясь, вынул из-за кушака пистолет и, несмотря на то, что Баллантрэ не двинул даже бровью и не проронил ни одного слова, я уверен, что туземец поступал так, как ему было внушено.
— Саиб советует вам лучше удалиться, — сказал индус.
Я решил, что самое благоразумное будет, если мы удалимся, так как вовсе не желал быть застреленным.
— Скажите саибу, что я не считаю его больше джентльменом, — сказал я и, сделав презрительный жест рукой, собрался уходить вместе со своим товарищем.
Я сделал только несколько шагов, когда голос индуса остановил меня.
— Саиб желал бы знать, не принадлежите ли вы к числу проклятых ирландцев? — спросил он, и при этих словах Баллантрэ улыбнулся и низко поклонился.
— Это еще что? — спросил я.
— Саиб советует вам обратиться за объяснением этого вопроса к вашему другу Маккеллару, — сказал индус. — Саиб просит передать вам, что он расквитался с вами.
— Скажите саибу, что когда мы встретимся с ним в следующий раз, то я сумею его проучить: он узнает скрипача Пэта.
Перед тем как уйти, я взглянул на Баллантрэ и его товарища. Оба они сидели и улыбались.
Не думаю, чтобы я когда-нибудь на самом деле решился бы отомстить мастеру Баллантрэ за его нахальство, так как я принадлежу к числу тех людей, которые никогда не отворачиваются от своих друзей. Про Фрэнсиса Бурке никто не может сказать, чтобы он когда-либо изменил своему другу, хотя бы даже за это меня постигла участь Цезаря.
(После этого следует маленькая статья, которую кавалер Бурке зачеркнул, раньше чем прислал мне мемуары. По всей вероятности, здесь говорилось обо мне, и автор мемуаров, как я понял из некоторых слов, обвиняет меня в том, будто я не сумел сохранить в секрете то, что он мне сказал про Баллантрэ, хотя я решительно не помню, когда это могло быть. Быть может, мистер Генри проговорился насчет чего-нибудь, или мастер Баллантрэ выпытал что-нибудь у самого Бурке, или, наконец, выведал у него содержание письма, присланного мне из Франции, — этого я не знаю, но во всяком случае, если вследствие этого письма мастер Баллантрэ обозлился на Бурке и отомстил ему, то в этом я не виноват.
Я знаю, что, несмотря на всю испорченность мастера Баллантрэ, он все-таки умел питать известную привязанность к человеку, которого он считал своим другом, и мне кажется, что, насколько его черствая натура позволяла ему, он вначале был привязан к кавалеру Бурке; но мысль о том, что друг его осмелился выдать малейшую тайну, касавшуюся его, сразу охладила его любовь, которая и без того была не особенно сильная, и его скверный, злой характер при первом же случае выказался с самой неприглядной стороны. Э. Макк.).
Странное дело, что сколько я ни старался, никак не мог припомнить то число, когда произошло одно событие, которое имело огромное влияние на мою жизнь в доме лордов Деррисдиров и которое наделало мне массу хлопот. Я пересмотрел все свои записки и заметки, которые я составил в то время, но у меня решительно нигде число не обозначено. Да оно и вполне понятно: я находился тогда в таком тревожном состоянии, что и не подумал о том, что следует поставить число, изо дня в день переживал такое волнение, что мне нечего было и думать следовать своим привычкам. Во всяком случае, насколько мне помнится, то, о чем я намерен теперь рассказать, случилось в конце марта или в начале апреля 1764 года.
Я в эту ночь довольно дурно спал и проснулся с тяжелым сердцем: мне казалось, будто что-то дурное должно случиться в этот день. Предчувствие это было настолько сильно, что я, не отдавая себе отчета, чего я, собственно, боюсь, соскочил с постели и в одной рубашке и брюках бросился бежать вниз по лестнице, держась за перила.
Было холодное, солнечное утро, дрозды пели удивительно громко и весело, а море так сильно шумело, что во всех комнатах дома раздавался шум его волн. Когда я подошел к двери зала, я услышал еще другой шум, а именно — звук раздававшихся в ней голосов. Я подошел ближе к двери и прислушался, но тут же остолбенел от удивления. Я слышал человеческий голос, но человек, разговаривавший, говорил на таком странном языке, которого я еще никогда не слыхал. Сколько я ни старался, я не мог понять ни одного слова. Мне пришел в голову рассказ, который я слышал в детстве. Мне рассказывали, будто за много-много лет до моего рождения в доме моих предков ни с того, ни с сего появилась красивая чужестранка и поселилась там на некоторое время. Она разговаривала очень много, но на таком языке, которого никто не понимал, и, пожив с неделю под кровлей моих предков, она среди глубокой, темной ночи исчезла так же незаметно, как и появилась.
Легенда эта невольно пришла мне на ум в то время, как я стоял за дверью и прислушивался к незнакомому мне говору. Мне сделалось даже жутко, но любопытство взяло верх над страхом, и я вошел в комнату.
Стол, стоявший посреди комнаты, находился еще в том самом виде, в каком мы его оставили накануне, после ужина: посуда не была еще прибрана, ставни окон были еще закрыты, но сквозь щели их пробивался дневной свет. В комнате было темно, огромный зал освещался лишь одной восковой свечой и светом горевших в камине углей.