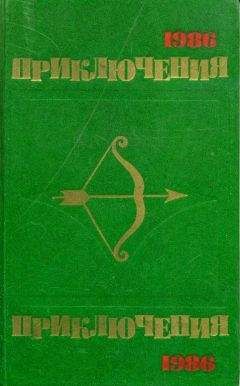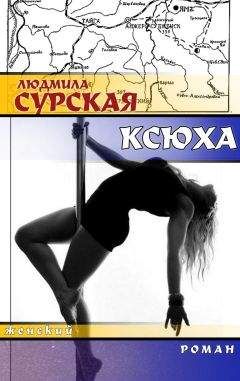«Это положение сохраняет силу независимо от того, имела ли эта передача или соглашение форму открытого грабежа или разбоя или же была прикрыта законной формой, построенной даже на добровольном характере такого соглашения или передачи».
Как видите, я сам обострил разговор. А сейчас смеюсь. Ну, не так, как смеялся в аду Мефистофель. Попроще. Но это мой естественный смех, записанный на магнитофонную пленку, когда я еще был жив. Сейчас он усилен электронной аппаратурой и звучит тревожнее и мрачнее, чем в натуре. Почему, если можно записать на пленку пение, музыку и оставить для потомков, не то в наслаждение, не то в назидание, — с таким же успехом можно записать и смех. Но это лишь отступление. Перейдем к делу. Есть безусловные преимущества в том, чтобы из живого человека превратиться однажды в электронного. Меня невозможно перебить. Вы вынуждены будете выслушать мой монолог. Даже, если он будет недопустимо длинным.
«Электронный Леман» замигал, засигналил, видимо, пугая меня, а может быть, по другим, одному ему известным причинам. Не исключаю, что и мигание лампочек было очередным фарсом, неталантливыми играми взрослых людей, уставших от сверхсложностей сегодняшнего индустриального мира. Да и мне самому захотелось вдруг на зеленую лужайку — не на стриженый газон, а именно на лужайку, прекрасную в своей нерукотворности и первозданности.
Позднее с улыбкой буду вспоминать об этой минуте, когда вполне мог, по примеру луддитов, схватить дубье, чтобы сокрушить эти хитроумные машины: никакого прогресса, никакой сверхцивилизации, желаю, дескать, назад, к гармоничной жизни предков. Естественно, не пещерных, что было бы слишком, а, скажем так, древнегреческих, у которых хватало времени для раздумий и философствований, для попыток гармонично развить мысль, дух и тело. Это была тоска по архаичным и прекрасным временам.
«Электронный мистер Леман» совсем осерчал. Он продолжал мигать и издавать шипящие звуки и шорохи. Затем он заговорил вновь.
* * *
Итак, электронная машина под названием «Мистер Леман» подошла к тому, что она считала центром разговора.
— Может быть, существовало и нечто закономерное в том, что Гитлер собирался сконцентрировать все художественные ценности Европы в музеях будущей новой столицы своей империи. Это могло помочь увидеть, что уже создано было за многие тысячелетия в усталом регионе. А Европа, согласитесь, — усталый регион. Слишком много цивилизаций сменилось на ней. Слишком много сил на их создание затратили некогда обитатели континента. И устали. Сейчас они уже не в состоянии защитить даже то, что сотворено их предками. Коль скоро так уже случилось, европейцам следует осознать реальное положение дел, не цепляться за иллюзии и воспоминания о былом величии их континента. В конце концов, мы тоже бывшие европейцы. Как некогда финикийцы отплыли от своих берегов, чтобы основать Карфаген, который вскоре стал самой богатой державой мира, занимавшей абсолютно первое место и по количеству золота, и по количеству слонов, и по количеству храмов на душу населения, так мы тоже покинули прародину, чтобы обрести больше благ, чем могли бы иметь, оставаясь в Европе. А блага, их наличие — это и есть свобода, а также счастье, если оно вообще возможно. Сконцентрированные ценности, богатства будет легче перенести сюда, на новую родину европейцев. Так что работу по выявлению сокровищ на всем континенте, начатую бонзами «третьего рейха», нельзя считать совсем бессмысленной. Со старой Европой все равно надо было прощаться, В том виде, в каком она существовала ранее, существовать дальше она все равно не смогла бы.
— Другими словами, — спросил я, — вы считаете, что место альбома Дюрера теперь здесь, в Нью-Йорке, а не в «Оссолинеуме», где он находился ранее?
В «Электронном Бобби» что-то не сработало, он поначалу как бы не расслышал моего вопроса и продолжал свою затянувшуюся речь, но затем опять замигало, защелкало, «Бобби» сказал: «Извините, я увлекся», а далее:
— Да, я так считаю! Со старым континентом пора прощаться. И все лучшее надо унести сюда. А теперь, чтобы все окончательно стало ясным, заканчиваю мысль. Собирать картины начал еще мой отец. И собирал он их для нового континента. Еще перед первой первой мировой войной уже возникла большая коллекция, соперничая с собранием Морганов, Меллонов, Клеев, Фриксов. У отца был отличный вкус, но он все же предпочитал пользоваться услугами искусствоведов-посредников. Ну а я предпочитаю полагаться лишь на собственные знания и интуицию. Сам оцениваю вещи, сам проверяю их подлинность. Далее — был и остаюсь идейным приверженцем священного принципа частной собственности. Она гарантирует все — свободу, право чувствовать себя человеком, уважающим себя, собственные вкусы, имеющим возможность на них настоять, возможность, ни у кого не спросясь, создать Аполлона Бельведерского, если хватит таланта, или купить его, если таланта недостаточно. Или же написать автопортрет не хуже того, о котором мы сегодня с вами толкуем. Кстати, и Дюреру нужны были средства, которыми он мог бы свободно распоряжаться. Это помогло ему работать спокойно и жить в надежде, что работу купят, а, значит, он, Дюрер, получив достойный гонорар, станет еще независимее. Теперь вам должно быть понятнее, что именно я хочу сказать. Конечно, межгосударственные отношения требуют, чтобы Дюрера возвратили именно на то место, откуда он был взят. Но не забывайте, что во времена вашей революции принцип частной собственности был нарушен. Например, вы отказались платить долги другим государствам. И тот, кто считал принципы частной собственности священными, вправе был ответить корсарством. Таким корсарством, если хотите, были действия последнего куратора Библиотеки Оссолинских Андрея Любомирского. Он ведь не признал правомочным все, что произошло на Западной Украине в 1939 году, бежал на Запад. Позднее, приняв из рук наших парней альбом, он поступил как пират, но пират, отстаивающий давние имущественные права своей семьи. Согласитесь, старый князь Любомирский передавал права на альбом любимому городу и любимой им библиотеке Оссолинских, а вовсе не коммунистам. Он не мог знать, что случится через много лет после его смерти, и не оговорил различные возможные варианты.
И тут-то я понял, что пришла пора сыграть козырным тузом.
— Хорошо, — спросил я, — а если бы выяснилось, что князь Генрик Любомирский все предвидел и все предусмотрел? Если бы он, так же как вы, свято чтя частнособственнические законы, все же выразил волю, чтобы никто из наследников и ни при каких обстоятельствах не покушался бы на рисунки? Как тогда?