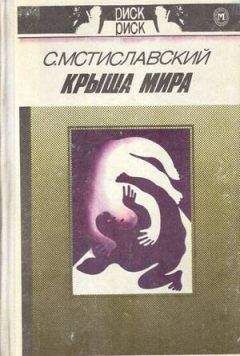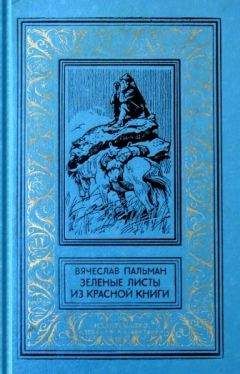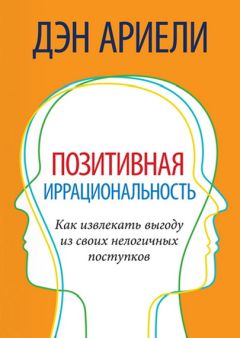Я осмотрелся, на этот раз внимательно: ведь, входя в пещеру, я не искал никого… И потому — только теперь заметил в восточном углу пещеры, над самым полом, черный широкий ход.
Прислушался: ни шороха. Сердце бьется спокойно и радостно: может ли быть в этой пещере опасность!
Я вырвал из костра смоляной пылающий сук и наклонился к ходу. Он был неглубок. Огонь осветил внутренность второй, еще меньшей пещеры. У стены, на циновке, крестом сложив ноги, сидел худой высокий старик.
Он поднял на меня светлые, спокойные глаза и улыбнулся. По лицу и одежде — белой, складчатой, широкой — он не из здешних гор. На матово-смуглом лбу, меж бровей, еле заметный, синею краской очерченный круг.
Я опустил факел.
— Я вошел сюда хозяином, отец. Я не ждал встречи.
Старик кивнул головой и поднял бледную, прозрачную руку к белой бороде.
— В добрый час! Разве я не уступил тебе уже место у костра, Нарушитель?..
— Ты видел Хранителей?
— Я — из Рошана: весть о тебе встретила меня на дороге раньше, чем ты оставил Кала-и-Хумб… Но ты слишком долго говоришь со мной: зови своих охотников, а не то они справят по тебе поминки.
Он говорил по-таджикски медленно, как бы обдумывая слова: это не его язык. Я вернулся к выходу и крикнул:
— Ночлег готов! Зачерпните в Пяндже воды в кунган.
— А белая женщина? — глухо донеслось с утеса.
— Пуст вопрос, на который не будет ответа. Идите, говорю я: костер ждет кунган; кто не хочет ужина — пусть остается на скале.
Первым решился Гассан. К его призыву горцы отнеслись доверчивее. Сполз в воду Вассарга. За ним подобрались остальные; последним Эскалор. Войдя в пещеру, он долго-долго не подымал глаз на белую тень, вившуюся над пылавшим костром, под холодным пригнутым сводом.
Старик остался в дальней пещере. Только на короткое время подсел он к костру, по просьбе горцев. Но от еды отказался: чуть пригубил чашку с чаем, которую подал я ему первому, как почетному гостю. А когда язгулонцы вытащили из мешка черный прокопченный вкусный турий окорок, он медленно поднялся, прощаясь с нами тихим наклоном головы.
— Когда будешь в Рошане — поверни коня от Лянгара на полночь: Хира-Чарма скажет твою судьбу.
При этом имени охотники склонились, как на молитве, прижав к груди руки.
Старик, неслышно ступая, исчез в черной впадине входа.
— Сквозь стену прошел… видел? — шепнул, широко раскрыв глаза, Гассан. — Наверное, великий святой: все молчит!
Турье мясо забило мне рот: я ответил не сразу.
— А кто такой Хира-Чарма?
— Отшельник гор, — ответил вполголоса Вассарга. — Великий Ведун. Святой жизни! От самого Кабула, от Бухары ходят к нему за советом. Но мало кто видит его: строг старец — не ко всякому беседа. Странник — из учеников его, надо думать; если только он не див. Видом он — как и Чарма — из Гиндустана.
— Значит, люди все-таки ходят по Тропе! Этот человек не боится Хранителей.
Язгулонец покачал головой.
— Завет святого, заповедь его — хранит крепче ножа Хранителей. Джилга поцеловал бы край его одежды. Но и святому нет пути по Тропе: потому что он хранит, не нарушает. Странник сойдет с Тропы, как сходят крэн-и-лонги: разве ты видел перед собою следы?
Стали располагаться на ночлег. Горячей водой облили мои мукки, чтобы отпаять от них израненные ступни: кожа с ног сошла вся, до голени. Только кое-где белели на опухлых багрово-синих мышцах, на желтых сухожилиях ее обрывки. Я изорвал рубашку на бинты; во вьюке нашлось кунжутное масло; затянули промасленными тряпками огнем горевшие ноги. Лихорадило.
— Э-и! У девушек кожа толще, чем у тебя, таксыр, — качает головою Вассарга. — Как ты пойдешь теперь? В мукках нельзя больше: на живое мясо нельзя класть кожу козла, — за один день зачернеет нога смертью. Придется тебе идти завтра босым…
Завтра! Но завтра — далеко еще. А сейчас — так хорошо, тепло и уютно у костра, опять в пянджской пещере, под близкий — ласковый и твердый — ропот реки. И засыпается сладко, глядя на белые дымки, тенью скользящие по сводам — к выходу из пещеры, на Пяндж, на волю, на простор.
* * *
Еще не забрезжил свет, а Вассарга уже торопил походом. Вчера днем видел он: спускались от гребня Змеиной горы крэн-и-лонги, торопились от Пянджа, далеко-далеко загонялись в ущелье. От змеиного шипа: долго стоял он над горами — полдня, быть может. Змея не чтит Завета: ее закон один — всякая нога — враг. От змей бежали на север Хранители. Может быть, раньше их успеем дойти до Турьего Лба: там Тропе конец.
О Турьем Лбе он рассказывает так — пока, подкидывая в костер последние стволы арчи, Гассан греет воду для чая:
— Турий Лоб — скала: огромная, гладкая, как кость турья. Тянется по берегу на триста, то ли на четыреста шагов; здесь — поворот Пянджа: лбом вдвигается в реку гора. Обойти — нельзя ни по воде, ни по суше; подняться на нее можно только с восхода: ни с заката, ни с полночи, ни с полудня спуска с нее нет. В давнее — деды помнят — время афридии, с того берега (в этом месте почти что смыкаются берега Пянджа — так узок водяной проток), собрались было идти на запад: прельстила их молва о золоте, и серебре, и меди, и железе, и драгоценных камнях, которыми полны здешние горы: ведь мы здесь, таксыр, воистину, по золоту идем… И, так как пройти через Турий Лоб нельзя было, они построили вокруг него висячий переход. Сколько месяцев строили, но на запад так и не пошли: Тропа не пустила дальше…
…Последнее трудное место: конец Тропе. Потом будет уже легче идти. Если минуем благополучно, Эскалор — он самый быстрый — уйдет вперед, бегом до Кала-и-Вамара, города ближнего (большой бекский город), дать знать, что ты прошел Тропу. Оттуда вышлют коней к спуску, что начинает Шугнанскую тропу. По ней и верхом проедешь.
— А дойдем до ночи?
— Как верно сказать в горах? Мы по Тропе не ходили… Должны дойти. По преданию: час дивьего лета по Тропе — значит три дня человечьего пути: к вечеру, а то и раньше, выведет Пяндж к Турьему Лбу.
Значит, день всего: счет — на часы.
Но часы эти надо п р о й т и. А мне и стоять даже — нестерпимо. Как на пытке. Каждое движение отдает в висках щемящим, острым ударом…
Тронулись однако. Со стариком прощаться не пришлось. Он спал, и мы его будить не стали.
Как советовали горцы, я пошел без мукк. Боль заслепила сразу: я не видел, какими местами мы шли. Не говорил и не думал. Помню, что поднимались, и опускались, и царапались снова по камню. Долго ли? Не знаю: я не смотрел на часы.
Но мало-помалу ступать стало легче. Голова помутнела — ровным, чуть-чуть кровенеющим туманом, но острой боли не было. Это — главное.
Я снова — хотя и странно как-то, словно сквозь дымку — увидел снеговые вершины, близко-близко наклонившиеся к Тропе, и бурливый, задорный Пяндж, бьющий в берега, и играющие на солнце, разновидностью камней, скалы, и ясное, синее, спокойное близкое небо. Не передать словами, как сказочно хорошо в этих местах!