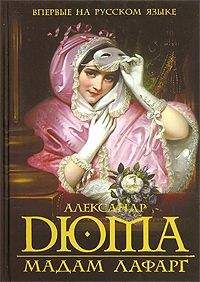— В одиннадцать лет я убежала из дома и целых две недели провела с цыганами, — сказала вдруг поэтесса. — Они научили меня воровать, гадать на картах, слагать песни и многим другим глупостям. Которые, правда, пригодились мне в жизни. Но если я начну перечислять все свои грехи, преступления и злодеяния, то вы уйдете отсюда только под Новый год. Поэтому простите меня оптом, за все.
— А я вообще в жизни ничего плохого не сделал, — заметил Зубавин. — Если не считать того, что написал как-то в детстве соседу под дверь и устроил аварию на Чернобыльской АЭС.
— Я, в таком случае, просто святой, — сказал Антон Андронович Стоячий. — Поскольку сам себе все грехи давно отпустил.
— Потому что вы гриб, — уточнил Каллистрат. — А все грибы смиренны, терпеливы и не стяжательны. Вся их преступная деятельность лишь в том, что они добровольно в суп не даются. А вот Полярные зеленые…
— Не надо про них! — попросил Стоячий. — Это слишком серьезная тема, чтобы обсуждать здесь. Да еще в присутствии посторонних. — И он покосился сначала на Шиманского, затем — в сторону Харимади. Та фыркнула, но ничего не ответила. Все происходящее ее безмерно забавляло. Гамаюнов держался за ее руку, как маленький мальчик, боящийся потеряться в толпе.
— Хорошо, — произнес я. — Будем считать лирические отступления законченными. Перейдем к прозе. Многие из сидящих здесь, в зале, совершали когда-либо и продолжают совершать до сих пор странные, порой нелепые, а иной раз противоречащие здравому смыслу поступки. Идущие не только против здравого смысла, но и вразрез с нравственными нормами. Но, как говаривал английский граф Шефтсбери: что для одних нелепость, для других доказательство. Что я хочу этим сказать? А то, что, допустим, зарезать одного-двух людей будет считаться злодеянием, а уничтожить в войне тысячи — победой. Или стащить кошелек у старушки и угодить за это в тюрьму, а кому-то украсть товарный состав либо нефтяную скважину и стать губернатором края. Все относительно, Евгений Львович это подтвердит.
— Эйнштейн ошибался, — ответил Тарасевич. — Все предельно закономерно и логично, исходя из моей «новой хронофутурологии». Примерно через час здесь, в клинике, произойдет убийство.
Слова его не возымели действия, поскольку были восприняты как очередная шутка физика. Но он говорил серьезно. Так мне, по крайней мере, показалось. Хотя умел искусно прятать улыбку в бороду. Я воспользовался случаем и перевел его слова в несколько иную плоскость. Вернее, возвратил в наше время, в настоящее.
— Убийство, к сожалению, уже произошло, — сказал я. — И убийца среди нас, здесь.
— Это снова из Скотта Фицджеральда? — спросила поэтесса.
— Нет, это из Александра Тропенина, — отозвался я. — Но выдумано не мной, жизнью. Она оказывается изощреннее любых, самых взыскательных сюжетов. Никто больше ничего не хочет добавить?
Никто не ответил.
— Убита Алла Борисовна Ползункова. Смерть настигла и Ларису Сергеевну Харченко. Нет смысла больше это скрывать. Две жертвы, два преступления. Оба связаны между собой.
Поскольку виновником в том и другом случае является один и тот же человек. У него еще есть последний шанс признаться.
Ответом мне вновь было напряженное молчание. Все ждали, что я скажу дальше?
— Хорошо, начну издалека. — Я подал знак Жану, и он вышел на кухню, за подносом. — Жил некогда мальчик, которого совратила его старшая сестра. И еще одна пожилая женщина.
Я видел, как напряглись скулы на лице Гамаюнова. Он даже стал приподниматься со своего стула, но вновь сел. А Жан уже вошел с подносом, на котором что-то блестело.
— Мальчик вырос, превратился в прекрасного юношу. Но перед этим он застрелил сестру. Намеренно. Потому что любил и ненавидел ее. С тех пор эти два противоречивых чувства жили в нем постоянно. Соперничали между собой. Он дарил свою любовь женщинам много старше себя, но и смертельно ненавидел их, жаждал их гибели. Они даже не представляли, какой опасности подвергают свою жизнь, принимая его ласки. Его мозг всегда находился в противоборстве с самим собой. Ему было просто необходимо убить снова любую женщину, хотя бы отдаленно похожую на его сестру. А потом, возможно, начать совершать все новые и новые убийства.
Жан опустил поднос на столик перед Гамаюновым и Харимади. На нем лежал нож с инкрустированной костяной ручкой. И деликатно отошел в сторону.
— Это же… мой ножик? — сказала депутатша. — Я ведь его тебе подарила.
— Дура! — выкрикнул Парис и закатил ей оплеуху. Да так, что она свалилась со стула. — Надо было тебя прирезать!
Я поднял руку, останавливая охранников. Другие мужчины тоже вскочили со своих мест.
— Спокойно, — сказал я. — Понимаю, что вы не хотели убивать Аллу Борисовну. Так вышло. Вы видели в ней совсем другую женщину. Свою сестру.
— Да, — признался Гамаюнов. — Плечи его подрагивали. — Но я не виноват в смерти актрисы.
— Я знаю. Вы просто пришли к ней ночью, выпили шампанского, а потом сказали, что заняты другой. — Я поглядел на Харимади, которая как раз поднималась с пола. — Да Харченко и сама все прекрасно осознала. Еще вечером, в таборе у цыган. Для нее это действительно явилось трагедией, потому что она любила вас. Последней, самой поздней любовью. И ушла как настоящая актриса, сыграв свою лучшую роль. Она отравилась.
Гамаюнов схватился за голову, словно внутри у него что-то разрывалось.
— Маленький мой! — произнесла Харимади, поглаживая своего любовника. — Мы тебя вылечим. Полежишь с годик в больнице, а потом я сделаю тебя мэром какого-нибудь приморского городка, как обещала. Ты только не переживай!
— Ид-диот-т-тка! — проорал ей в лицо Парис. — Я убью тебя!
Он рванулся к окну, совершил немыслимый прыжок, выбил стекла и рухнул с той стороны. Охранники бросились за ним следом.
— Оставайтесь на своих местах! — Я повысил голос, успокаивая собравшихся. — Они без нас разберутся.
Охранники Сергей и Геннадий, вернулись примерно через полчаса. Все это время Борис Брунович Бижуцкий развлекал взволнованное общество своей нескончаемой историей про шабаш у соседа Гуревича и как он «застрял» где-то на подоконнике. В один из моментов Антон Андронович тронул меня за руку и отвел в сторонку.
— Я все понимаю, — сказал он достаточно серьезно и жестко. — Вы тут решили устроить не час откровений, а час разоблачений. Может быть, в вашей науке это и принято. Я не специалист. Об одном только прошу.
— Слушаю.
— Ни при каких обстоятельствах не затрагивайте Сатоси и Тарасевича. Вам ясно?
— Ах, вот оно что! — Я посмотрел на Стоячего несколько иными глазами. — Теперь понятно.