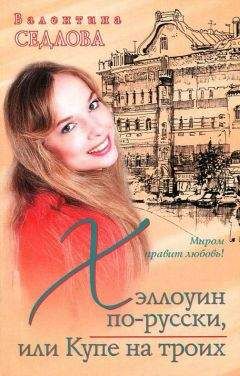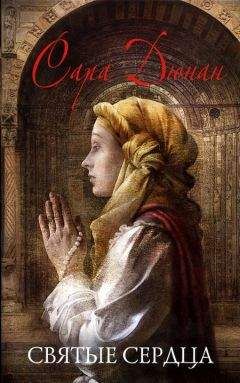– Больше нужно нашим летчикам летать в сложных условиях.
Главный ничего не сказал на это, а Разумихин решил, что он чего-то не понял в замечаниях Руканова.
Пропустив Долотова к его месту, Костя Карауш хотел было спросить, зачем вызывал Главный, но, поглядев в лицо командиру, промолчал. «Все равно ничего не скажет».
– Костя! – позвал Козлевич. – Чего так сидеть? Травани чего-нибудь… Слышь, одессит!
Но Карауша в кабине уже не было. Он сидел в салоне рядом с Ритой и, не обращая внимания на Ивочку, не без успеха развлекал ее.
– У моей сестры парень – на вас похож! – весело говорила она.
– Плохая примета.
– Почему?
– Дети будут.
Женщина смеялась тем удивительным смехом, который выражал не просто веселость ее, а всю целиком, искренне и безоглядно отдавшуюся радости посмеяться.
…Час спустя буря поутихла, степь стала просматриваться. К самолету одна за другой подъехали несколько машин, из которых выходили и глядели на иллюминаторы озабоченные люди в плащах с капюшонами.
Затем привезли стремянку и, когда механики открыли заднюю дверь, с земли донеслось:
– Братцы, как Николай Сергеевич?
– В порядке. У вас что, всегда так?
– Бывает!..
Люди внизу повеселели, живее задвигались, послышались веселые команды. Подъехал МАЗ с металлическим кузовом – буксировать самолет.
Через полчаса всех увезли на окраину заводского поселка, состоявшего из финских домиков с окнами в бескрайнюю степь. И только Пал Петрович с двумя мотористами остался у машины. Он велел молодым людям обмести шарнирные узлы стоек шасси веником, протереть от следов бараньей шерсти и крови.
– Давай! – махнул он шоферу тягача.
Рослый таджик-шофер вначале посмеивался, глядя на маленького распорядительного старика – бортинженера, но, получив от него весьма увесистое «ценное указание», быстро посерьезнел и поставил двигатель на фиксированные обороты, чтобы ровнее двигался буксируемый самолет.
Со стороны казалось, что Главный более всего занят слушанием того, о чем говорили заводские конструкторы, и они старались быть возможно доказательнее в своих рассуждениях, тщательно обосновывая каждый свой вывод, справедливо полагая, что, чем яснее изложат свое понимание возможных обстоятельств поломки двигателя, тем более убедят Главного как в своей осведомленности, так и в невозможности считать найденные неполадки причиной катастрофы. Как видно, это была их главная забота.
И после первых же выступлений Соколову стало ясно: чувство непричастности к трагедии было общим для всех. Все начинали с анализа повреждений, очерчивали указкой зону разрушения и под конец заключали, что неисправность, какой она предстала после реставрации форсажной камеры двигателя, никак не могла вызвать катастрофических последствий. Уяснив, что, сколько бы ни говорилось в этом роде, ничего нового он не услышит, Соколов как бы отстранился от слушания, перестал вникать в произносимые слова, а пытался выяснить, кто, что за люди занимались расследованием, угадать, с каким настроением они искали и как восприняли огрех в работе двигателей. Чувство вины и то, какое место она занимала в его душе, определяло отношение Соколова ко всем тем, кто появлялся у доски с развешанными общими видами двигателей С-224. И чем яснее становилось, что никто из выступающих не чувствует за собою вины, тем более суровел Старик, тем неприязненнее глядел на выходивших к доске инженеров.
Особенно неприятны ему были те, кто выступал по обязанности, согласившись «принять участие». Люди эти говорили небрежно, коротко, ни на чем высказанном до них не останавливаясь, сводя свои размышления к простой формуле: я, мол, не вижу причин, из-за которых меня потревожили, но если вам интересно знать мое мнение, то вот в каком направлении только и можно рассуждать, хотя, как вы сами видите, и в этом случае выводы не изменятся. Таких ораторов Старик не только не слушал, но и не смотрел на них. А если поворачивал к ним свои льдистые колючие глаза, то очень хмурился, невольно подтверждая самые нелестные россказни о нетерпимости своей натуры и грубости своего поведения. Но Соколов, всегда с отвращением относившийся ко всяческой суете, теперь, после пережитого во время посадки С-404, едва сдерживал гневливое возбуждение. Директор завода уже выискивал минуту поудобнее, чтобы завершить разговор, понимая, что для проделанного Соколовым пути, который чуть не закончился аварией, совещание выглядит той самой игрой, которая не стоит свеч. И когда к доске вышел молодой инженер из отдела топливных систем, директор решил, что это выступление будет последним.
Инженер глядел себе под ноги, нервно потирая длинные вялые пальцы рук, переступал с ноги на ногу.
– Николай Сергеевич – обратился он к Соколову, глядя, однако, себе под ноги. – Прошу вас, взгляните на эти фотографии.
«Да он с ума сошел! – подумал директор. – С Соколовым, как с приятелем!..»
Главный, лицо которого стало строго и спокойно, поднялся и подошел к столу, на котором молодой человек разложил свои снимки. В кабинете насторожились. Привычное течение совещания было нарушено.
– Вот, посмотрите. Это снимок прогоревшей форсажной камеры двигателя, который стоял на самолете. Видите отломанную в зоне пайки трубку, подающую топливо в форсажную камеру? Она оторвалась в воздухе, во время работы, это установлено экспертизой. После разрыва трубки горящая струя прожгла не только саму камеру, но часть перегородки между двигателями. Пайка не выдержала вибрационных нагрузок. Сначала разрыв, потом действие реактивной струи и температуры – трубка искривилась и образовала своеобразный огнемет с высоким давлением пламени… Здесь говорили, что неисправность в форсажной камере не могла послужить причиной взрыва. Тем не менее связь можно проследить. И я попробую это сделать.
Соколов посмотрел, как от напряжения покрылась капельками пота верхняя губа молодого человека, как он то и дело приглаживает реденькие светлые волосы на макушке, и сказал по-отечески ласково, поощрительно:
– Ну-ка, ну-ка!.. Только не торопись, сынок.
Главный вернулся на свое место и приготовился слушать.
Воодушевленный вниманием Соколова, инженер продолжал уже более спокойно, обстоятельно.
– После обнаружения неисправности все мы рассуждали примерно так. Летчику достаточно было остановить двигатель, включить противопожарную систему (а в этой зоне пламегасящее устройство очень эффективно), чтобы затем без труда добраться до аэродрома на одном двигателе. Коль скоро он этого не сделал, значит, был занят чем-то другим, какой-то другой, не связанной с двигателями, но очень важной неисправностью: отказом управления или тому подобным. Так ли это? С самого начала меня не оставляла мысль, что неисправность в форсажной камере и то, что помешало летчику даже включить противопожарную систему, произошло одновременно, то есть очень быстро одно за другим.