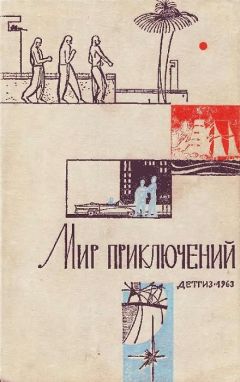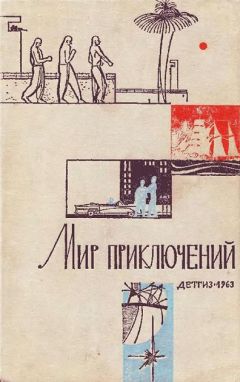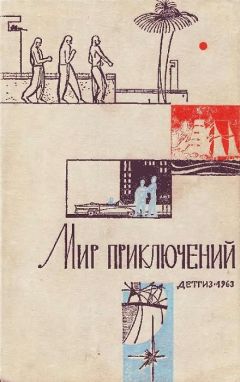— Просто, ребята, у вас обоих нервы подкачали.
— Это у меня — нервы? Пятьдесят человек поставь передо мной, я их по одному вот этим самым молотком перебью. У меня сейчас ни к кому жалости нет и не может быть. Лишь бы то получилось, что нами задумано. А убить на улице ночью… но что это за доблесть? Мы ведь не бандиты, не убийцы… И потом, начнется розыск, могут покопаться… И для чего убивать? Чтобы испытать себя? А я и так уверен, что в нужную минуту у меня рука не дрогнет.
— Знаете, я тоже теперь думаю, что это было бы ни к чему. Мне раньше казалось, что придумано здорово — стукнуть молотком первого же прохожего, кто после двух часов ночи пройдет по этому переулку. И стукнуть насмерть именно только для того, чтобы испытать свои нервы. Но сейчас я понимаю, что это рискованно. Говорят, при нынешнем уровне техники милиция раскрывает все серьезные преступления. А зачем нам рисковать?
— А я не согласен. Кто бы нас нашел? И как? Но раз вы оба решаете, я подчиняюсь. Мы все трое должны быть теперь в полном согласии. В общем, могу сказать, что я лично все-таки себя испытал, у меня не было ни минуты колебания. Я убил бы любого. Я на все готов. — Я тоже готов. На все. И я готов. Не остановлюсь ни перед чем.
Огромный камень врос в землю на самом краю обрыва. Его, как змеи, облегли извилистые глубокие трещины — подползли к нему и погубили. Теперь ему недолго висеть над пропастью. Дожди подмоют его, свирепый ветер подтолкнет крутым плечом, и камень рухнет. Он вырвется из гнезда, в котором недвижно лежал, может быть, с rex времен, когда люди носили звериные шкуры и жили в пещерах.
Сминая кусты и молодые деревца, прыгая через овражки, ямы и все более разгоняясь, он ринется по крутому склону и обрушится в реку, бушующую на дне ущелья, станет поперек яростного потока и утвердится здесь незыблемо на новые тысячелетия.
“Перемены” — вот как надо назвать этот этюд…
Тоненькая кисточка трогает красным жалом трещину под камнем, и на листе плотной бумаги рассеченная земля как будто наполняется кровью.
Ну что ж, ведь так и есть. Трещина — это рана земли. II когда смотришь после яркого солнца в темноту расселины, там, в глубине, словно вспыхивают пятна крови…
Все-таки обязательно скажут: неправдоподобно. Почему, скажут, у вас земля красная?
Надо добиться, чтобы все это увидели. Грант упрямо стискивает губы.
Вот лежит под ярким солнцем камень, внизу вспенилась и словно застыла река, вверху синеет небо, и к нему прилепилось три — четыре облачка. Но эта неподвижность только кажущаяся. Ох, как хочется передать ощущение предстоящей в природе перемены! Камень еще не упал, по на рисунке должно быть движение, должен чувствоваться сокрушительный путь, который глыба проложит по склону, должен слышаться как бы грохот падения. В природе нет покоя.
В альбоме двадцать листов, и на каждом один и тот же рисунок — падающий камень.
Дома мать спросит:
“Для чего тебе это, Грант? Каждый выходной день ты ходишь рисовать эту глыбу. Ты же все-таки не художник. Рисуй разное!”
Это верно. Он не стал художником.
В детстве был случаи, когда он, возвращаясь из Дворца пионеров, встретил па улице какого-то дальнего родственника. Уж чего-чего, а родственников в семье было достаточно. Этот приехал на денек из деревни, зайти не мог, а только передал привет. И вот дома Грант никак не мог объяснить матери, кого он видел. С досады он схватил карандаш, провел быстро несколько кривых линий, затем прочертил две — три прямые, нанес штриховку, прикрыл морщинистыми веками прищуренные глаза, и сестра воскликнула: “Это дядя Мовсес из Нор-Амберта!”
С тех пор родственники, друзья и особенно соседи решили, что Грант обязательно станет художником.
Одна только мать ласково посмеивалась и с сомнением покачивала головой. Соседи же v друзья настаивали, чтобы рисунки мальчика были показаны какому-нибудь крупному мастеру.
Мать собрала все пейзажи, этюды и портреты — Грант к тому времени наплодил их множество, — получше приодела сына и повела его к известному художнику, с которым была хорошо знакома, потому что учила в школе его детей.
Грант навсегда запомнил этот день. Он ничуть не волновался, он точно знал, что наступила минута великого перелома в его жизни.
Обычно, разглядывая рисунки, взрослые спрашивали: “Сколько лет мальчику?” — и восхищенно закатывали глаза, цокали языком.
Художник тоже спросил:
— Сколько тебе лет?
Зная все, что должно вслед за этим произойти, Грант скромно потупился:
— Мне четырнадцать…
Он понимал, как нужно вести себя в этом доме. Старый художник раскрыл дверцу глубокого шкафа, вытащил стопку тетрадей для рисования.
— Вот это все рисунки четырнадцатилетних. Посмотри-ка!
Грант терпеливо перелистал несколько тетрадей. Какое ему до них дело!
— Тут работы моих учеников. Все они, как видишь, способные ребята. Три десятка тетрадей. Кто из них, из этих четырнадцатилетних, станет художником? Может, никто. В лучшем случае — один, два. А кто оставит хоть маленький след в памяти людей? Этого я предсказать не берусь. Но запомниться людям может только тот, кто увидит мир иначе, чем все другие.
Грант вежливо ждал, когда старик заговорит о его рисунках.
— Ну вот, молодой человек, твоя тетрадь… — Художник еще раз неторопливо полистал страницы. — Что могу тебе сказать? Неплохо. В общем, приблизительно так же, как у всех других способных ребят твоего возраста…
Потом художник пригласил мать пить черный кофе. А Грант убежал. Разве мог он оставаться еще хоть минуту в этом доме? Долго, долго он не хотел простить матери, что ела лила кофе с человеком, который обидел ее сына.
Мать не стала его успокаивать.
— Я ведь примерно знала, что тебе скажут. Только считала, сынок, что тебе полезно все это услышать самому.
Она всегда понимала, что для него хорошо и что плохо, где надо ему дать ход, а где немного попридержать. И знала о нем все: и то, что он делал в открытую, и то, о чем умалчивал. Это он понял много лет спустя, когда танком начал посещать аэроклуб в Ереване. Думая, что об этом никто не знает и что семья будет против, он решил исподволь и скрытно готовить себя к профессии летчика. Наконец-то он нашел свое настоящее призвание! Летать, летать — вот это дело как раз для него! Каждый глоток воздуха в километре над землей был счастьем.
Он все еще раздумывал, как помягче сообщить домашним о своем выборе, а мать сказала:
— Все знаю, сынок. Хочешь летать — летай. Теперь уж вижу, что это у тебя серьезно.