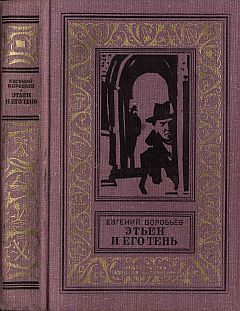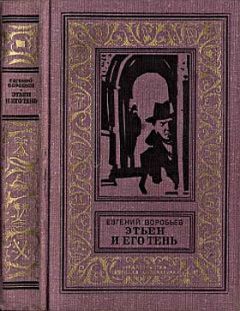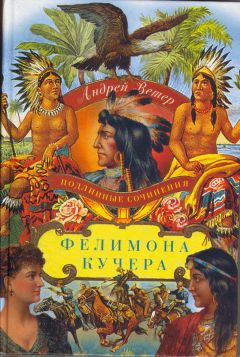«Не будет ли осложнений у Скарбека? У него польский паспорт, – все чаще тревожился Кертнер. – Лишь бы ему не пришлось уехать, лишь бы не закрылось фотоателье «Моменто».
Да, немало печальных и даже трагических новостей сообщил за два года злобствующий тюремщик. И как трудно бывало правильно оценить каждое такое сообщение, вселить в молодых товарищей по камере веру и бодрость, правильно осветить события, происходящие в мире, и дать им революционную марксистскую оценку.
Немало острых споров вели они по ночам в конце августа 39-го года, после того как СССР и Германия заключили пакт о ненападении.
Помимо споров с Бруно, в те дни Этьен тяготел к размышлениям наедине с собой. Он взял в тюремной библиотеке «Майн кампф» Гитлера на итальянском языке и внимательно перечитал. Многие места книги выводили его из душевного равновесия. Особенно запомнилось:
«Мы покончили с вечными германскими походами на юг и на запад Европы и обращаем взор на земли на Востоке… И когда мы говорим сегодня о новой территории в Европе, нам сразу приходит на ум только Россия и пограничные государства, подчиненные ей… Гигантская империя на Востоке созрела для падения».
Не раз во время чтения Этьен думал:
«Все у нас должны знать, с каким «заклятым другом» мы заключили договор о ненападении.
Вот же мне, коммунисту и командиру Красной Армии, в это грозное время пришлось надеть на себя маску и шкуру австрийского коммерсанта. Может, в этой предвоенной обстановке и Советской стране пришлось притвориться доверчивой. Лишь бы не довериться на самом деле, а только притвориться…»
Прежде, когда счет шел на годы, месяц казался значительно более коротким, чем сейчас.
Совсем, совсем недавно оставалось сто дней до освобождения, а сегодня – только три месяца. Конечно, три месяца – тоже срок немалый, но воодушевляет уже одна мысль, что было во много раз больше.
А потом счет уже пошел на недели. Значит, наступит такое время, когда единицей измерения станут сутки?
За десять дней до освобождения заключенный переводится из общей камеры в одиночку. Может быть, для того, чтобы уходящему на волю не давали всевозможных поручений, не использовали его как связного?
Кертнер заранее начал принимать от своих тюремных собратьев поручения. Конечно, в пределах того, что может сделать человек, высылаемый за границу под конвоем: например, передать чью-нибудь просьбу соседу по вагону или прохожему, который вызовет его доверие.
В камере № 2 уже давно сообща высчитали, что 3 декабря Кертнера должны перевести в одиночку. Последний день пребывания в общей камере, последний вызов на прогулку. Он пытливо вглядывался в лица. На всех одно и то же выражение – смотрят с завистью, и каждый мысленно задает себе вопрос: «Неужели и для меня когда-нибудь наступит такой день, неужели и я доживу до такой радости?»
Перед концом прогулки он попрощался с товарищами из других камер. Скорее всего, его переведут в одиночку завтра утром.
– Значит, последняя прогулка?
– Да, последняя, – радостно подтвердил Кертнер.
Все сняли серо-коричневые береты в знак приветствия, он никогда больше не увидится с товарищами.
Личная радость отравлена тревожным состраданием ко всем этим людям. Только подумать, что их ужасное прозябание будет продолжаться, когда он окажется далеко-далеко от мрачных стен, замков и решеток. Им овладела невыразимая нежность к товарищам, которых он здесь оставляет, а прежде и больше всего – к Бруно. Ему предстоит просидеть еще девять месяцев. Огромный срок! Этого времени женщине хватает, чтобы зачать и в первый раз накормить младенца грудью.
Бруно помалкивал, но в камере знали: он не верит фашистам и боится, что Кертнера оставят в тюрьме сверх срока.
Тем большей была радость, когда 3 декабря, после утренней воды и раздачи хлеба, к решетчатой двери подошел Карузо и прозвучало жданное-долгожданное и все-таки неожиданное:
– Номер две тысячи семьсот двадцать два! На выход со всем имуществом!
«Со всем имуществом!!»
Три мучительных года Этьен ждал, когда для него прозвучат эти слова. И вот наконец-то Карузо произнес их, – как показалось Этьену, произнес, тоже слегка волнуясь.
– Только сейчас рассеялись мои сомнения, – счастливо улыбнулся Бруно. – Ты на пороге свободы.
– Надо еще прожить эти десять дней, – глубоко вздохнул Кертнер, но тут же неудержимо рассмеялся.
Больше ни слова друзья не сказали, молча обнялись – каждому хотелось прильнуть к другу всем сердцем – и заплакали, хотя оба стеснялись слез. Им обоим удалось овладеть собой, только когда они бойко завели речь о каком-то совершенном пустяке.
Уходя из камеры, Кертнер впервые не сказал сегодня соседям: «Ариведерчи», а радостно воскликнул: «Аддио!» – и спазмы сжали его горло.
Одиночная камера, где Кертнеру предстояло провести в строгой изоляции последние десять дней, – на втором этаже.
Обычно, войдя в камеру, заключенный сразу спешит к окну: ну-ка, что мне будет видно отсюда в ближайшие месяцы, а может быть, годы?
Но Этьен был сейчас равнодушен к виду из окна, он устало сел на койку.
Если быть чистосердечным и совсем искренним, Этьен даже доволен, что напоследок очутился в одиночке. Хорошо, что его отселили из общей камеры: предчувствие близкой свободы требует одиночества. Было бы жестоко и безнравственно жить счастливцем рядом с теми, кому еще предстоит долго томиться в заточении. А скрывать счастье труднее, чем горе.
Сколько есть на свете радостей, о которых и не подозревают те, кто всегда живет на воле!
Скоро у него вновь появится необходимость следить за временем и куда-то торопиться. Пожалуй, гуманно, что узникам не оставляют часов, а то бы они не отводили глаз от циферблата и сокрушались по поводу того, что стрелки движутся слишком медленно.
Вновь появится право написать письмо, записку, когда за листом бумаги не подглядывают холодные глаза Джордано.
Люди на воле и не подозревают, что значит ходить по земле, куда и как тебе самому заблагорассудится, не ожидая команд и не прислушиваясь к ним.
Люди на воле не ценят возможности спать в темноте, без принудительной лампы над головой, они могут включить и выключить свет, когда им захочется. Ох, этот свет тюремной лампы, режущий глаза! И саму лампу тоже, как узницу, обволакивает железная сетка.
Право остаться наедине с собой, чтобы смотритель через «спиончино», то есть глазок, не засматривал тебе в самую душу…
Да мало ли есть уже почти забытых радостей, и все эти радости станут ему вскоре доступны!