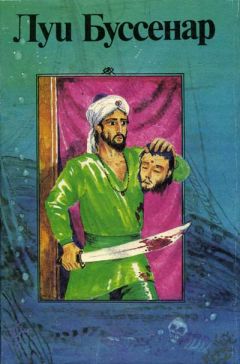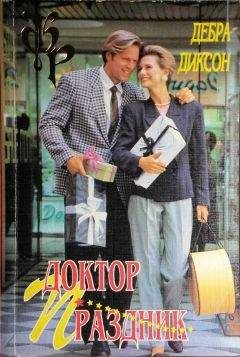Францу было двадцать два года, на щеках у него пробивался легкий персиковый пушок, и голос его уже перестал соскакивать с одной октавы на другую.
Что касается Сюзель, то она была белокурой и розовой. Ей было семнадцать лет, и она не питала отвращения к рыбной ловле. Это времяпрепровождение очень подходило к темпераменту Франца. Терпеливый, насколько это возможно, он умел ждать, и когда после шестичасового ожидания скромная уклейка, сжалившись над ним, позволяла наконец поймать себя, он был счастлив, но умел сдерживать свою радость.
В этот день будущие супруги сидели на зеленом берегу. У их ног журчал прозрачный Ваар. Сюзель беспечно протягивала иглу сквозь канву. Франц машинально отводил удочку слева направо, потом снова пускал ее по течению, справа налево. Уклейки выделывали в воде капризные круги вокруг поплавка, но ни одна рыба еще не была поймана.
— Кажется, клюет, Сюзель, — говорил время от времени Франц, не поднимая глаз на молодую девушку.
— Вы думаете, Франц? — отвечала Сюзель, на миг оставляя свое рукоделье и следя за удочкой жениха.
— Нет, нет, — продолжал Франц. — Мне показалось, я ошибся.
— Клюнет, Франц, — утешала его Сюзель. — Но не забудьте подсечь вовремя. Вы всегда опаздываете, и уклейка срывается.
— Хотите взять удочку, Сюзель?
— С удовольствием, Франц.
— Тогда дайте мне вашу канву. Посмотрим, не лучше ли я управлюсь с иглой, чем с удочкой.
И девушка дрожащей рукой брала удочку, а молодой человек продевал иглу в клетки канвы. Так сидели они долгие часы, обмениваясь кроткими словами, и сердца у них трепетали, когда поплавок вздрагивал на воде. Восхитительные часы, когда, сидя рядом, они слушали журчанье реки!
Солнце уже низко склонилось к горизонту, но, несмотря на соединенные таланты Сюзель и Франца, ни одна рыба не клюнула. Уклейки только смеялись над молодыми людьми, которые были слишком справедливы, чтобы сердиться на них за это.
— В другой раз мы будем счастливее, Франц, — сказала Сюзель, когда молодой рыболов снова вколол свой нетронутый крючок в еловую дощечку.
— Нужно надеяться, Сюзель, — ответил Франц.
Они пошли к дому, не обмениваясь ни словом, безмолвные, как их тени, казавшиеся необыкновенно длинными под косыми лучами заходящего солнца. Особенно тощей была тень Франца, узкая и длинная, как удочка, которую он нес.
Молодые люди подошли к дому бургомистра. Блестящие булыжники были окаймлены пучками зеленой травы, которую никто не выпалывал, так как она устилала улицу ковром и смягчала звук шагов.
В тот момент, когда дверь открывалась, Франц счел нужным сказать своей невесте:
— Вы знаете, Сюзель, великий день приближается.
— Правда, приближается, Франц, — ответила девушка, опуская длинные ресницы.
— Да, — сказал Франц, — через пять или шесть лет…
— До свиданья, Франц, — сказала Сюзель.
— До свиданья, Сюзель, — ответил Франц.
И, когда дверь закрылась, молодой человек отправился ровным и спокойным шагом к дому советника Никлосса.
Глава VII,
где andante превращается в allegro, a allegro в vivace[4]
Волнение, вызванное случаем с адвокатом Шютом и врачом Кустосом, улеглось. Дело не имело последствий. Можно было надеяться, что Кикандон, возмущенный на миг необъяснимым событием, вернется к своей привычной апатии.
Прокладка труб для проводки оксигидрического газа в главнейшие здания города подвигалась быстро. Трубопроводы и ответвления понемногу проскальзывали под мостовые Кикандона. Но рожков еще не было, так как их изготовление было сложным делом и пришлось заказывать их за границей. Доктор Окс со своим препаратором Игеном не теряли ни минуты, торопя рабочих, заканчивая тонкие механизмы газометра, наблюдая день и ночь за гигантскими батареями, разлагающими воду под действием мощного электрического тока. Да, доктор уже вырабатывал свой газ, хотя проводка не была еще закончена. Вскоре доктор Окс должен был продемонстрировать в городском театре великолепие своего нового освещения.
В Кикандоне был театр, прекрасное здание, архитектура которого соединяла в себе все стили — и византийский, и романский, и готический, и ренессанс, — с полукруглыми дверями, стрельчатыми окнами, розетками, фантастическими шпилями; одним словом — образец всех жанров, наполовину Парфенон[5], наполовину «Большое кафе» в Париже. На сооружение театра ушло семьсот лет, и он последовательно приспособлялся к архитектурной моде всех эпох. Тем не менее это было прекрасное здание.
В кикандонском театре играли всё понемногу, но чаще всего шли оперы. Однако ни одни композитор не узнал бы своего произведения, до того оно было изменено замедленным темпом.
Действительно, так как в Кикандоне ничто не делалось быстро, то драматические произведения должны были применяться к темпераменту кикандонцев. Хотя двери театра и открывались обычно в четыре часа, а закрывались в десять, не было примеров, чтобы за эти шесть часов было сыграно больше двух актов. «Роберт Дьявол», «Гугеноты»-или «Вильгельм Телль» занимали обычно три вечера, настолько медленно исполнялись эти шедевры. Vivace в Кикандонском театре исполнялись, как настоящие adagio[6], a allegro тянулись бесконечно. Самые быстрые рулады, исполненные в кикандонском вкусе, походили на церковные гимны. Беспечные трели удлинялись невероятно. Бурная ария Фигаро в первом акте «Севильского цирюльника» продолжалась пятьдесят восемь минут.
Разумеется, заезжие артисты должны были применяться к этой моде, но так как платили им хорошо, то они не жаловались и послушно следовали смычку дирижера.
Но зато сколько аплодисментов выпадало на долю этих артистов, восхищавших, не утомляя, жителей Кикандона! Публика хлопала продолжительно и равномерно, а газеты сообщали на другой день, что артист заслужил «бурные аплодисменты» и если зал не обрушился от криков «браво», то только потому, что в XII столетни на постройки не жалели ни цемента, ни камня.
Впрочем, для того чтобы не приводить восторженные фламандские натуры в излишнее возбуждение, представления давались только раз в неделю. Это позволяло актерам тщательно углубляться в роли, а зрителям — лучше чувствовать красоты драматического искусства.
Такой порядок, существовал с незапамятных времен. Иностранные артисты заключали контракты с кикандонским директором, когда хотели отдохнуть, и казалось, что ничто не изменит этих обычаев, когда через две недели после дела Шюта — Кустоса население было вновь смущено неожиданным инцидентом.
Была суббота, день оперы. Нового освещения еще нельзя было ждать. Трубы уже были проведены в зал, но газовых рожков еще не было, и свечи изливали свой кроткий свет на многочисленных зрителей, наполнявших зал. Двери для публики были открыты с часу пополудни, а в три зал был уже наполовину полон. Был момент, когда образовалась очередь, доводившая до конца площади св. Эрнуфа и до лавки аптекаря Лифринка. По такому скоплению публики легко было догадаться, что спектакль предстоит прекрасный.