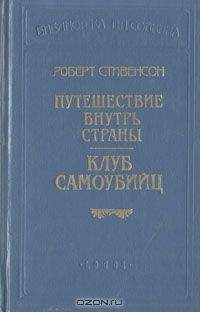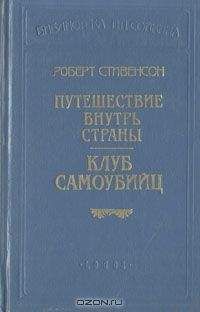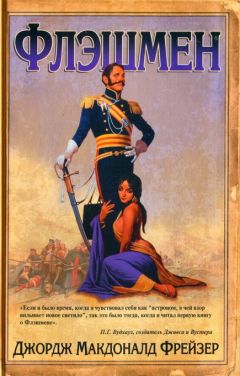Одна эта мысль уже бесила меня, что я и высказал несколько необдуманно в своей речи.
Кэз перевел или, вернее, сделал вид, что перевел ее; ему возразили сначала первый старшина, потом второй, потом третий, все одинаково спокойно, хотя торжественно. Раз предложили Кэзу какой-то вопрос и при его ответе все — и старшины, и народ — громко расхохотались и посмотрели на меня.
После всех морщинистый старик и высокий молодой старшина, говоривший первым, подвергли Кэза чему-то, вроде допроса. Иногда мне казалось, что Кэз старается оправдаться, тогда они накидывались на него, точно собаки, и пот лил с его лица (зрелище для меня не особенно приятное), а при некоторых его ответах толпа роптала и рычала, что было еще более неприятно для моего слуха. Ужасно обидно, что я не знал туземного языка, потому что (я теперь уверен) они спрашивали Кэза относительно моего брака, а он, должно быть, нагло лгал, чтобы самому уволочь ноги. Но оставим Кэза в покое. У него мозг приспособлен для парламента.
— Кончено, что ли? — спросил я во время паузы.
— Пойдем отсюда, — сказал он с печальным лицом. — Я вам дорогой расскажу.
— Вы думаете, они не хотят снять табу? — воскликнул я.
— Что-то очень странное, — ответил он. — Я вам скажу дорогою. Пойдемте лучше.
— Я их требованиям подчиняться не желаю. Не такой я человек, чтобы бежать перед толпой канаков.
— Лучше было бы бежать, — сказал Кэз, многозначительно посмотрев на меня.
Пятеро старшин смотрели на меня довольно вежливо, но как бы с насмешкой, а толпа шумела и толкалась.
Вспомнил я людей, следивших за моим домом, вспомнил, как испугался на кафедре пастор при одном взгляде на меня, и все в общем представилось мне настолько выходящим из ряда, что я встал и последовал за Кэзом. Толпа снова расступилась, чтобы пропустить нас, только шире, чем раньше, дети с визгом разбежались. Все стояли и наблюдали за уходившими двумя белолицыми.
— Теперь объясните мне, в чем дело, — сказал я.
— По правде сказать, я и сам хорошенько не знаю. Они вас жалеют, — ответил Кэз.
— Накладывать на человека табу из сожаления к нему! — воскликнул я. — Никогда не слыхал ничего подобного.
— Это, видите ли, хуже, — сказал Кэз. — Это не табу, я же вам говорил, что табу быть не может. Дело в том, что они не хотят входить с вами в сношения, Уильтшайр.
— Не хотят входить в сношения? Что вы хотите этим сказать? Почему же они не хотят? — воскликнул я.
— Боятся, должно быть, — ответил Кэз, понизив голос.
Я остановился как вкопанный.
— Боятся? — переспросил я. — Не сошли ли вы с ума, Кэз? Чего им бояться?
— Мне самому хотелось бы это знать, — ответил Кэз. — Вероятнее всего, одно из их дурацких суеверий. Вот с этим-то я и не могу согласиться, — продолжал он. — Это напоминает дело Вигура.
— Мне хотелось бы знать ваше мнение на этот счет, и я побеспокою вас просьбой сообщить мне его, — сказал я.
— Вигур, как вам известно, все бросил и удрал, — сказал он, — тоже вследствие какого-то суеверия. С чем оно было связано, я так и не узнал, но оно приняло дурной оборот под конец.
— Я слышал эту историю в ином виде, — заметил я, — и лучше будет сказать вам. Я слышал, что он уехал из-за вас.
— О, ему, верно, стыдно было сказать правду. Я догадываюсь, что он считал это глупостью, — сказал Кэз. — Это факт, что я выпроводил его. "Что бы сделали вы, старина?" — спросил он. — "Уехал бы, не раздумывая", — ответил я. — Я был ужасно рад, что он уезжает. Не в моих правилах отворачиваться от соперника, если он занимает прочное положение, но в деревне началось такое волнение, что я не мог предвидеть, чем и когда оно кончится. Глупо было с моей стороны возиться с Вигуром. Сегодня они поставили мне это на вид. Слышали, Миа — молодой, высокий такой старшина — проговорился насчет "Вика"? Это его и касалось. Как видно, его не забыли.
— Все это прекрасно, — сказал я, — но все-таки не объясняет мне этого недоразумения, не говорит мне, чего они боятся, что у них за идея.
— Кабы я знал! — сказал Кэз. — Яснее я сказать не могу.
— Вы, я думаю, могли бы спросить, — заметил я.
— Я и спросил, — ответил он. — Но вы должны были видеть, если вы не слепы, что вопросу придали иное значение. Я заступаюсь за белого, пока возможно, но когда я вижу, что сам попадаю в беду, то прежде всего думаю о собственной шкуре. Я много теряю от своего добродушия и беру на себя смелость сказать, что вы проявляете странную благодарность человеку, который попал в эту передрягу по вашему делу.
— Есть одна вещь, о которой я думаю, — сказал я. — Вы сглупили, что так много возились с Вигуром. Утешительно, что вы не очень много заботились обо мне: вы ни разу даже не зашли ко мне. Сознайтесь, вы знали об этом раньше?
— Я не был у вас — это факт. Это вышло случайно, и это меня огорчает, Уильтшайр. Относительно же посещения в настоящее время я буду совершеннно откровенен.
— Вы хотите сказать, что не придете? — спросил я.
— Крайне прискорбно, старина, но таково положение, — сказал Кэз.
— Короче говоря, боитесь? — заметил я.
— Короче говоря, боюсь, — ответил он.
— А я так и останусь под табу ни за что, ни про что? — спросил я.
— Говорят вам, табу нет. Просто канаки не желают сближаться с вами, и все тут. Кто их может принудить? Мы, торговцы, пренесносный народ, надо заметить: заставляем бедняг-канаков отменять законы, снимать табу, когда для нас это выгодно. Но не имеете же вы право рассчитывать, чтобы закон обязывал жителей посещать ваш магазин — хотят ли, не хотят ли они этого? Не скажете же вы мне, что вы злитесь на это? Если же и злитесь, то странно предлагать то же самое и мне. Я должен вам поставить на вид, Уильтшайр, что я сам торговый человек.
— Не думаю, что на вашем месте я стал бы говорить о злобе, — сказал я. — Насколько я вижу, дело обстоит так: никто не ведет торговли со мною, и все ведут сношение с вами. Вам доставляют копру, а мне приходится убираться к черту и трепетать. Туземного языка я не знаю, вы единственный, достойный внимания человек, говорящий по-английски, и вы возбуждаете злобу, намекаете, что жизни моей грозит опасность и все, что можете сказать мне, что причина вам неизвестна!
— Это именно все, что я могу вам сказать, — подтвердил он. — Не знаю… Желал бы знать…
— Значит, вы поворачиваете мне спину и предоставляете меня самому себе? Так? — спросил я.
— Если вам угодно придавать моему поведению такое гадкое значение, — сказал он. — Я не смотрю так, я просто говорю, что желаю отстраниться от вас, потому что если я этого не сделаю, то сам попаду в беду.