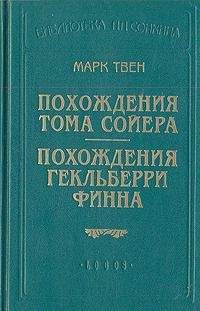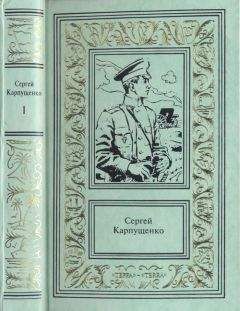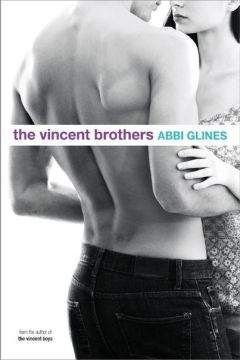Старик послал меня к ялику за припасами, которые он привез. Там я нашел мешок муки фунтов в пятьдесят, кусок свинины, порох и пули, бутыль с водкой в четыре галлона, потом какую-то старую книжку, два газетных листа, да еще немного бечевки. Я перенес часть груза, потом вернулся назад и присел на край ялика отдохнуть. Я все обдумал и решил, что когда убегу в лес, то надо захватить с собой ружье и несколько удочек. Оставаться долго на одном месте нельзя, но я буду кочевать большей частью ночью, охотиться и ловить рыбу для пропитания и зайду так далеко, что ни старику, ни вдове никогда уже не удастся отыскать меня. Я решил, что кончу выпиливать лазейку и убегу нынче же ночью, если отец напьется, а это непременно случится. Я так погрузился в свои мысли, что не заметил, как пролетело время. Старик окликнул меня, спрашивая, что со мной сделалось — утонул я, что ли, или заснул там на берегу?
Пока я перетаскивал вещи в избушку, на дворе стемнело. Я принялся стряпать ужин, а мой старик потягивать водку, и скоро опять пошла у нас потеха! Он и в городе пьянствовал и даже пролежал всю ночь в канаве — право, стоило на него посмотреть, до того он выпачкался в грязи! В пьяном виде он обычно бранил правительство, так и теперь.
— И это называется правительством! Полюбуйтесь-ка, на что оно похоже! Какие-то там законники, крючкотворы собираются отнять у человека его сына — его собственного, родного сына, которого он воспитал, не жалея ни трудов, ни забот, ни расходов! Да-с, — и вот когда человек, наконец, под нял сына на ноги, когда парень может начать трудиться, делать что-нибудь для отца, успокоить его в старости — тут вдруг закон хочет разлучить их. И это у нас называется правительством! Но это еще не все. Закон ведет руку старого судьи Тэчера, помогает ему отнимать у меня мою собственность. Хорош закон! Оттяпывает у бедного человека шесть тысяч долларов, заставляет его жить в скверной, старой лачуге, заставляет ходить в лохмотьях, в грязи, словно свинью какую! Это называется правительством! Вот как уважают права человека! Иной раз приходит мысль просто бросить все раз и навсегда и уехать из страны. Да, так я и сказал им, сказал прямо в лицо старику Тэчеру — там было их много, все слыхали! Я сказал, что готов за два цента бросить эту проклятую страну и никогда в нее не возвращаться. Вот мои собственные слова. Взгляните, говорю, на мою шляпу — можно ли назвать это шляпой — тулья вся отстала, а поля падают чуть не до подбородка, разве это шляпа? И этакое-то воронье гнездо я должен носить, ну, подобает ли это мне, одному из богатейших людей в городе, если б только я мог отстоять свои права? Да, чудное наше правительство, право, чудное! Возьмите хоть такой пример: был у нас один вольный негр из Огайо, мулат, почти такой же белый, как белые люди; одевался щеголем — рубаха чистейшая, шляпа сияет, ни у кого в городе нет такого хорошего, тонкого платья, и часы у него есть с цепочкой, и палка с серебряным набалдашником — словом, этот малый первейший франт в штате. Что ж вы думаете? Рассказывают, будто он учитель в каком-то колледже, говорит на разных языках и всему обучен. Да это бы еще куда ни шло, а вот что рассказывают: будто он пользуется правом избирательного голоса у себя дома. Ну, знаете, это меня взорвало! Куда мы идем, спрашивается? Был как раз день выборов, я сам собирался идти подавать голос, я не был слишком пьян… но когда мне сказали, что есть такой штат в нашей стране, где позволяют негру подавать голос, я сейчас же на попятную. Нет, говорю, я никогда больше не стану голосовать! Это я им объявил прямо в глаза, все слыхали мои слова, хоть убейте — не стану подавать голоса. И надо было видеть, как этот негр важничал, представьте, не хотел уступить мне дороги. Желал бы я знать, спрашиваю, почему этого нахала не продадут с молотка? Что ж, вы думаете, мне отвечали? Будто его продать нельзя, если он не пробыл в штате шести месяцев, а он столько еще не пробыл. Вот вам образчик! Ну, что это за правительство, когда нельзя даже продать негра, если он не прожил в штате шести месяцев! А еще зовется правительством, воображает себя правительством, когда не смеет шевельнуться целых шесть месяцев, не может забрать в руки проклятого негра, бродягу, вора в чистой рубашке и…
Отец вошел в такой азарт, что не заметил, куда несут его старые, шаткие ноги, так что полетел кубарем и ударился о кадку с соленой свининой и ссадил себе обе ноги; продолжение речи было самое горячее — больше всего досталось негру и правительству, а заодно и кадке. Он скакал по лачуге то на одной ноге, то на другой, наконец, со злости изо всей силы треснул кадку левой ногой; но расчет был плохой — как раз этот сапог оказался совсем дырявым — из него торчали два пальца; тут он так взвыл, что у меня волосы встали дыбом, бросился на грязный пол, катался как бешеный, все держа в руках свою ногу, и так ругался, как я еще отроду не слыхивал.
После ужина отец опять принялся за бутыль с водкой и объявил, что там еще осталось на две выпивки и на одну белую горячку; я рассчитал, что он напьется мертвецки пьяным уже через час, тогда я либо стащу у него ключ, либо кончу выпиливать свою лазейку. Он пил, пил, пока не свалился на свою койку; но мне не посчастливилось, — он очень долго не засыпал, ворочался, стонал и возился. Наконец, мне самому так захотелось спать, что глаза у меня слипались, как я ни старался перемогаться, и прежде чем успел опомниться, я крепко заснул. Не знаю, долго ли я проспал, но вдруг меня разбудил страшный вой. Я вскочил спросонок. Вижу — отец мечется и скачет как угорелый и все кричит про каких-то змей. Змеи будто бы ползают у него по ногам; он подскакивал с ревом — ему показалось, что одна змея укусила его за щеку. Однако я не видел никаких змей. Но он все бегал по лачуге и орал: «Сними их прочь, сними скорей! Вон одна кусает меня в шею!» Еще никогда я не видывал человека в таком исступлении. Умаявшись, весь разбитый, тяжело дыша, он упал на землю; потом стал кататься по полу удивительно быстро, все сваливая по пути, ловя что-то в воздухе руками, со стонами и воплями — ему казалось, что его держат черти. Мало-помалу он утих и лежал, продолжая слегка стонать, а там все тише и тише, наконец совсем замолк Из далекой чащи леса доносился крик совы и вой волков — мне было жутко и боязно. Отец все лежал неподвижно в углу. Вдруг он вскочил и стал прислушиваться, нагнув голову набок.
— Тук-тук-тук! — шептал он тихонько, — Вот мертвецы… тук-тук!., идут сюда за мной! Но я не хочу идти… вот они уже здесь! Не троньте, не троньте… прочь руки… ой, какие холодные! Пустите, оставьте меня бедного!..
Он пополз на четвереньках, все умоляя, чтобы его оставили в покое, потом завернулся в одеяло, забрался под старый еловый стол и принялся плакать. Я мог слышать его всхлипывания сквозь одеяло.