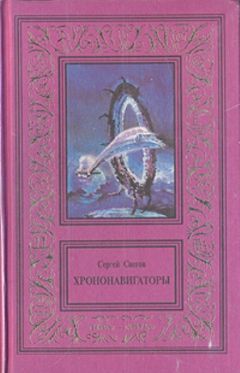Так ничего и не решив, Машенька тихонько скользнула вниз по ступеням.
* * *
Беседовал урядник с родителями в столовой, одновременно заполняя какую-то бумагу. Спрашивал про Парамовский лес — большой, дни напролет блуждать можно — и начинавшийся буквально в версте от имения.
Мамаша Королева плакала.
Старшие девочки переглядывались. Золотой песок и слоновая кость казались им все менее привлекательными…
Машенька, наблюдавшая за всем из своего уголка, не выдержала:
— Маменьк-а-а-а! — с плачем подбежала она к столу. — Они не в лес! Они в Америку-у-у-у! Пешком, вон туда, я утром все видел-а-а-а!
Через считанные минуты погоня двинулась по следу.
8. 1918
Время расставаться пришло на знакомом и памятном Чечевицыну месте — там, где дорога от имения Королевых выходила на тракт. Указатель куда-то исчез со столба, но сам столб еще стоял, и виднелись на нем дырки от гвоздей, крепивших доску. Чечевицын вздохнул, губы что-то беззвучно прошептали.
Отсюда дорога Фокина и отряда шла налево, к фронту и гибели, Чечевицына с его бричкой и пулеметами, — направо, в город. Пора было прощаться, но теплого прощания не получалось и все шло к тому, что кивнут друг другу да и разъедутся.
Так бы и вышло, но комэска вдруг вспомнил что-то, хлопнул себя по лбу под фуражкой, слез с коня.
— Пойдем-ка, Чечевицын, — впервые назвал он чекиста без прибавления «товарища». — Кой тут чё передать тебе надо… Пойдем, пойдем…
Он сделал приглашающий жест и пошагал подальше от дороги. Чечевицын ничего не понял, но вылез из брички, пошел следом: невысокий, прямой, черный как головешка.
— Тут это, Чечевицын… Девка та, помещичья, нехорошо помирала… Из рук рвалась, кричала, чё не Володя, чё она все, она… не знаю уж, о чем речь шла… Тебя требовала… Ну, растолковали ей: отлучился, мол, товарищ Чечевицын, не скоро вернется… Ну, успокоилась вроде, стала к стеночке… Вот, тебе просила передать, как придешь.
Фокин стянул фуражку, вынул из-под подкладки и протянул крохотный листок.
Произнес другим тоном, почти заискивающим:
— Я глянул, чё там… и не понял ничё… и знаешь чё, Чечевицын… ежели то шифровка какая… и ежели ты не тем, а вон тем служишь… ты, ежели чё, меня, главное, не втягивай… мне-то все едино, так и так подыхать… не хочу, чтоб жену таскали…
— Здесь не шифровка, Фокин, здесь другое, — задумчиво произнес Чечевицын, разглядывая ровненький и гладенький квадратик бумаги, аккуратно вырезанный ножницами из школьной тетради сестры и много лет пролежавший в девичьем альбоме. — Похоже, она любила меня все эти годы… Все пятнадцать лет. Вот ведь оно как бывает.
— Она любила тебя… А ты ее…
— Угу. Она любила. А я убил. Затертая рифма, любил-убил… Бывает и так, Фокин.
Чечевицын выпустил бумажку из рук, она закружилась к земле — еще один осенний лист в лесу, богатом палой листвой.
— Знаешь, Чечевицын, спервоначалу я думал, — ты человек… Позжее думал: нехороший ты человек и странный. А нынче вот думаю: и не человек ты вовсе… И хуйли мне твоего подвала пужаться? Так и так скоро подохну — и сразу туда.
Комэска Фокин схватился за наган, и дернул из кобуры, и увидел, как махнул рукой Чечевицын и блеснул браунинг, вылетая из рукава, и выстрелил от бедра, и что-то щелкнуло, как трехаршинный пастушеский кнут, и пуля угодила чекисту в лоб, точно промеж бровей, и разбила в куски и перемешала двух разных людей, поселившихся в одной голове, и мозги после выстрела Акулы Додсона плеснулись назад, забрызгав на добрый аршин желтоватую пыль Сьерры, и Фокин почувствовал, как что-то острое кольнуло ему прямо в сердце, и начал падать вперед, проваливаясь в бездонные колодцы глаз Боба Лагарры, и стетсон свалился с его головы к сапогам еще державшегося на ногах Чечевицына, и Боливар, напуганный выстрелами, отпрянул в сторону, но быстро успокоился и продолжил щипать траву, возможно, радуясь, что не придется уносить на спине ни одного, ни двоих, никого, — и жеребец будет так подкрепляться долго, пока к поляне не подъедет шериф Билл Крузерс в сопровождении двух агентов уездного угро…
А пока Акула Додсон стоял, опершись на колени и локти, — точь-в-точь магометанин на молитве, — и пытался прочесть, что написано на крохотном квадратном листке, лежавшем рядом с его кожаной фуражкой, слетевшей с головы, — буквы были незнакомые, и у Акулы все плыло перед глазами, но он почему-то был уверен: прочитает, и все станет хорошо, и страшный темный подвал — наплывающий, обступающий со всех сторон — отступит и исчезнет, и наконец комэска Фокин, беззвучно шевеля губами, сумел-таки прочесть написанное нетвердой детской рукой: «Монтигомо Ястребиный Коготь», и это был он, пропуск на выход из подвала, и Акула Додсон со счастливой улыбкой на губах завалился набок…