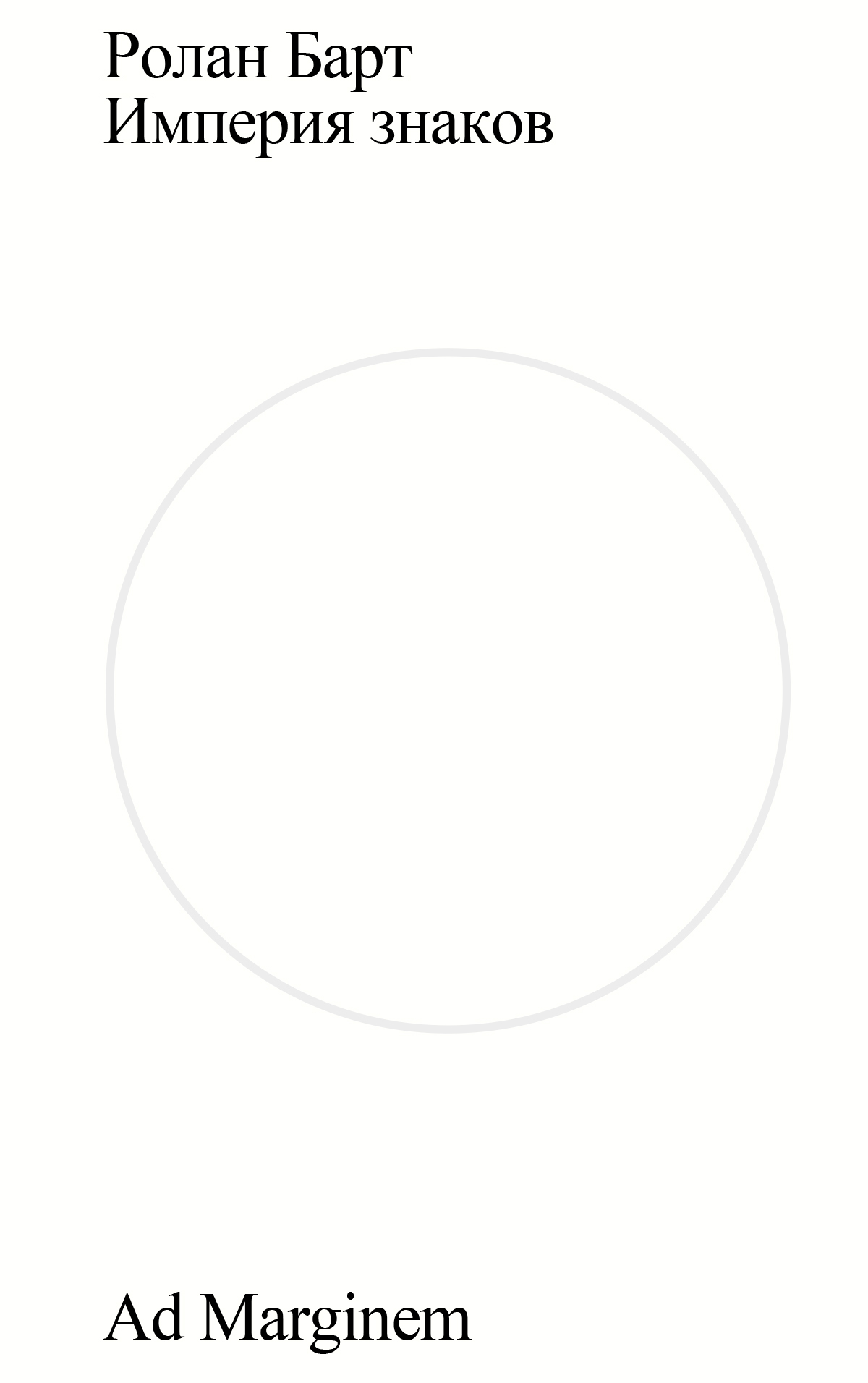а в том, чтобы отодвигать во времени; похоже, труд
изготовления (делания) инвестирует себя именно в упаковку, но тем самым объект лишается существования, он превращается в мираж: означаемое распаковывается слой за слоем, и когда в конце концов его ухватываешь (а в пакете обычно лежит
что-нибудь маленькое), оно кажется ничего не значащим, ничтожным, дешевым: удовольствие, поле означающего, уже было задействовано: пакет не пуст, но опустошен: обнаружить объект, находящийся в пакете, – всё равно что означаемое, заключенное в знаке, – значит отбросить его: то, что с энергичностью муравьев японцы переносят туда-сюда, суть пустые знаки. Ибо Япония изобилует тем, что можно было бы назвать инструментами транспортировки; они бывают различных видов и форм, из разных материалов: пакеты, сумки, чемоданы, узелки (
фудзё [22], например, – платок или крестьянская косынка, в которую заворачивается вещь), каждый прохожий на улице тащит какой-нибудь сверток, пустой знак, старательно оберегаемый, аккуратно несомый, как если бы эта завершенность, обрамленность, галлюцинаторная очерченность, создающая японский объект, обрекала его на бесконечный перенос. Роскошь вещи и глубина смысла определяются всего тремя критериями, которым должен соответствовать всякий производимый объект: он должны быть четким, переносным и пустым.
Куклы Бунраку ростом бывают от одного до двух метров. Это просто мужчины или женщины с подвижными частями тела – руками, ногами и ртами; каждую куклу поддерживают, сопровождают и приводят в движение трое: мастер держит верхнюю часть куклы и ее правую руку; его лицо открыто, гладко, светло, невозмутимо и холодно, как «свежевымытая белая луковица» (Басё); двое помощников, одетых в черное, с лицами, покрытыми тканью; один из них, в перчатках, но с голыми локтями, держит в руках большую раму с веревочками, которые отвечают за левую руку и левую кисть куклы; другой, согнувшись, поддерживает тело куклы и обеспечивает ее ходьбу. Эти люди перемещаются по неглубокой нише так, что их видно. За ними декорация, как в театре. Сбоку на сцене располагаются музыканты и чтецы; их задача – выражать текст (как выжимают сок из фруктов); текст этот наполовину читается, наполовину поется; пунктуация громких ударов плектров исполнителей на сямисэне сообщают тексту одновременно размеренность и порывистость, грубость и изящество. Истекая по́том и храня неподвижность, исполнители текста сидят позади невысоких загородок, на которых расположена огромная партитура, чьи вертикальные столбцы становятся видны всякий раз, когда они переворачивают страницу; к их плечам прикреплены треугольники из жесткой ткани, напоминающие воздушных змеев и обрамляющие их лица, подвластные всем колебаниям голоса.
Таким образом, в Бунраку осуществляются три отдельных уровня письма, которые считываются одновременно в трех составляющих спектакля: кукла, манипулятор, озвучивающий: жест-аффект, жест-стимул и жест вокальный. Голос: вся современная реальность ориентирована на эту особую субстанцию языка, которую повсюду пытаются заставить восторжествовать. В Бунраку, напротив, мы имеем дело с ограниченной идеей голоса; голос там не устраняется вовсе, но ему отводится раз и навсегда определенная, по сути, тривиальная роль. В самом деле, в голосе рассказчика собираются вместе утрированная декламация, тремоло, высокий женский тон, срывающиеся интонации, рыдания, умоляющие возгласы, приступы гнева, плача, изумления, невероятного пафоса – словом, целая кухня переживаний, открыто вырабатываемых посредством утробного тела, медиаторным мускулом которого выступает гортань. Кроме того, весь этот поток – не более чем код потока: голос движется лишь прерывистыми знаками бури; он исходит из неподвижного тела, скрытого треугольником одеяния, он привязан к книге, руководящей им со своего пюпитра, он подчиняется сухим и аритмичным (а потому и несколько нахальным) ударам исполнителя на сямисэне; вокальная субстанция остается написанной, прерывистой, закодированной, подвластной иронии (если отнять у этого слова язвительный оттенок); в конечном счете голос выносит на поверхность не то, что он нес («чувства»), но – самое себя, собственную обнаженность; каким-то хитрым образом означающее, словно перчатка, выворачивается наизнанку.


Восточный травести не копирует Женщину, но обозначает ее: он не встраивается в ее модель, но отстраняется от означаемого: Женственность надо не лицезреть, а читать: трансляция, а не трансгрессия; знак переходит от женской роли к сорокалетнему отцу семейства: это тот же самый человек, но где же начинается метафора?
Знак – это разрыв, всегда обнаруживающийся лишь на лице другого знака.
Голос не устраняется (что означало бы ввести цензуру, а значит, и указать на его значимость), но отводится в сторону (чтецы занимают боковую часть сцены). Куклы Бунраку представляют собой противовес, а точнее, противодействие по отношению к голосу – противодействие жеста. Этот жест двойной: эмотивный для кукол (публика плачет, когда кукла-любовница совершает самоубийство) и транзитивный для кукловодов. В нашем театральном искусстве актер изображает действия, но эти действия всегда остаются только жестами: на сцене – ничего кроме театра, но этот театр стыдится сам себя. Бунраку (по определению) разделяет действие и жест: он показывает жест, он позволяет увидеть действие, он разом являет и искусство, и труд, сохраняя для каждого из них его собственное письмо. Голос (и таким образом нет ничего страшного в том, что он выходит за пределы своей гаммы) сопровождается толщей тишины, где с изяществом прорисовываются иные черты, иное письмо. Вот здесь и возникает неслыханная вещь: помимо голоса и почти без мимики две этих разновидности безмолвного письма – транзитивное и жестовое, порождают экзальтацию, подобную интеллектуальной гиперестезии, производимой некоторыми наркотиками. Речь не очищена (ибо Бунраку не стремится к аскезе), но, скажем так, вся целиком вовлечена в игру, растворяя непременные составляющие западного театра: эмоция больше не захлестывает, не поглощает, но становится чтением, стереотипы исчезают, однако спектакль не стремится к «находкам», не впадает в оригинальничанье. Понятно, что всё это создает эффект дистанции, рекомендованный Брехтом [23]. Эта дистанция у нас считается невозможной, бесполезной, никчемной, старательно избегаемой, хотя именно ее Брехт положил в основание революционной драматургии [24] (и здесь одно объясняет другое); Бунраку же дает возможность понять, как эта дистанция функционирует: посредством прерывности кодов, посредством цезуры, прилагаемой к различным чертам представления; поэтому копия, создаваемая на сцене, не разрушается, но как бы дробится, покрывается бороздами, освобождаясь от метонимического смешения голоса с жестом и души с телом, которые у нашего комедианта слиты.

Письмо рождается из надписей на камне, это выемки и углубления, осязаемые, а не наблюдаемые (это не нанесение; скорее побуждение рассекать, а не наблюдать); письмо рассекает материю основы на отдельные участки, между которыми намечаются пустоты, оно лишь направляется к поверхности, впивается в нее, опуская на