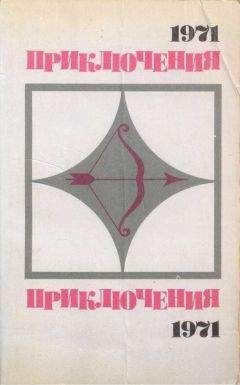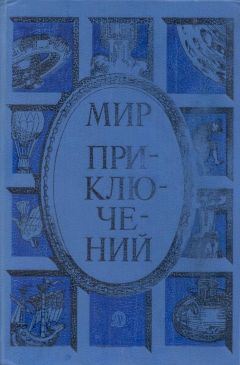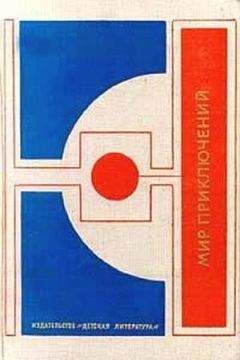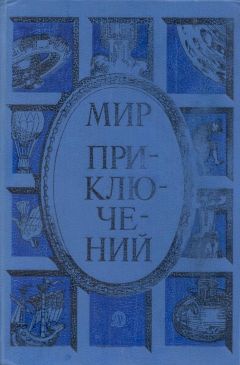Тогда я отошел к самой ограде двора и сел на траву. Она была мокрая и липкая, я попробовал ее рукой и встал. В это время из одного амбара вытащили какие-то длинные свертки. Часовой распахнул ворота, и плоские носилки одни за другими проплыли на улицу, ворота не закрывали, а часовой, переговариваясь с теми, кто выносил эти штуковины, не обращал на остальное внимания. Я шмыгнул мимо него и оказался на улице. Около ворот несколько людей что-то делали, копошились, поднимали. Следить за ними было интересно, но я боялся, что они меня заметят. Отец велел ждать в конторе. Еще нагорит. Я побрел по улочке. С обеих сторон ее из-за оград свешивались ветви яблонь. Сорвал яблоко, и, едва только зубы пронзили его кисловатую сладость, голод подступил к самым стенкам желудка. Я вспомнил, что с самого утра ничего не ел. Рот был полон вязкой слюны. Нет, надо ждать отца. Я повернул и опять пошел к милиции. Ворота были уже закрыты, около них в полной неподвижности стояли трое. Я, чтоб не вызвать у них каких-либо вопросов, перешел на другую сторону, добрел до штакетника ограды «Заготзерна» и оглянулся. Трое стояли по-прежнему и даже, кажется, смотрели на меня. Я отвернулся, сделал вид, что иду в калитку, но во дворе опять кто-то зашевелился, и я отпрянул. Нет, лучше было поговорить с теми, кто стоял у милиции, чем возвращаться. Я смело перешел дорогу и пошел к ним. Луна стояла высоко, но фонарный свет был тускл. Трое передо мной стояли, странно накренясь назад. Еще не понимая, но уже замедляя в безотчетном ужасе шаг, я подходил все ближе и вдруг замер. Передо мной, чуть запрокинувшись и глядя перед собой неподвижными глазами, стоял толстяк Тарас Остапович. Из-за него же все сегодня вышло, из-за него! Я кинулся к нему и тут же встал как прикованный. Что-то странное в самом положении их тел остановило меня.
Трое стояли так недвижно, так немо... Я шагнул ближе, глаза мои уперлись в черные буквы на его груди: «Каждый, кто знает этого человека, должен немедленно сообщить в милицию» было выведено вкривь и вкось на желтом картоне.
Повар стоял не шевелясь. Я стрельнул взглядом в ворота. Часовой покуривал перед ними, зябко подрагивая спиной. Почему они не стряхнут эти вывески? Я обошел всех троих и тут только понял все. В неестественном наклонном положении всех троих удерживали деревянные рогатины, вкопанные сзади. Я обежал их спереди. У повара на лбу зияла черная метина, а у остальных рубахи на груди были покрыты параллельными черными пятнами. И тогда слепящая молния ударила в мозг, и все полетело куда-то...
6
— Так ты говоришь, именно мальчик окликнул его, а не Голубовский? — спрашивал ровный басистый голос.
— Це Толик першый покликав, це Толик, — поет в ответ знакомый дискант.
— А Голубовский?
— Вин його пидсадыв.
— Ты думаешь, Голубовский был с ним раньше знаком?
— Я ж не знаю...
— Вел себя он с ним как? Как будто был раньше знаком или нет?
— Толик вел как знакомый. А пан Голубовський вел машину.
Голубовский — это моя фамилия. Я пробую разлепить глаза. Это нелегко, потому что веки слиплись и открывать их приходится с усилием, как будто на них лежит какая-то латунная тяжесть.
Спиной ко мне сидит большой человек в синем кителе и фуражке с красным околышем. Он спрашивает, потом наклоняется и разводит локти. Один локоть легонько движется. Человек пишет. Кшиськин голос раздается с другой стороны стола. Кшиськи не видно, В комнате горит тусклый электрический свет. С большого портрета на голой стене смотрит Сталин.
— Когда ехали, Голубовский разговаривал с пассажиром?
— С товстым?
— Да!
— Разговаривал, — певуче тянет Кшиська, — сначала я разговаривала, а как сел тот товстый, он один стал разговаривать и со мной, и с Толиком, и с паном Голубовським. Такый брехливый...
— О чем они говорили?
— Анехдоты товстый разказував.
— Не помнишь, о чем?
— Очень мне надо! Я анехдотов не слушаю и сама не рассказываю, — благонравно говорит Кшиська, и у человека в кителе вздрагивают лопатки:
— Ну ладно, ладно, никто тебе эту статью и не паяет.
— А Толику что паяют?
— Шустрая ты, девчинонька, — сказал капитан (я теперь видел его погоны), распрямляясь, — а Толик не говорил тебе, откуда он знал этого пассажира?
Смутное чувство какой-то тревоги охватило меня.
— Один день его и знал, — пробубнил я, приподнимаясь и садясь на стулья, на которых лежал.
— Очнулся! — закричал Кшиськин голос, и тотчас ее прическа с бантом возникла из-за милиционера.
— Ты выйди, Тында, — приказал он и обернулся. — Ожил?
Кшиська, пока шла к двери, успела состроить мне целую гамму гримас — от радости: расширенные глаза и всплеск руками — до презрительной: полуотвернутое лицо и приподнятый в надменном отстранении угол губ, но, когда выходила, опять уже была маленькой высокомерной дамой, знающей, как себя вести в любом обществе.
— Говорить можешь? — спросил меня капитан. У него было усатое, широкое лицо и маленькие глаза, цвет которых нельзя было разглядеть в тени от лампочки.
— Могу, — сказал я.
— Сядь-ка сюда, — махнул он через плечо на Кшиськино место.
Я встал, голова закружилась, но ненадолго. Я переждал, пока предметы установятся на свои места, подошел и сел. Перед капитаном лежали бумаги, под локтем была папка.
— Отец твой знал пассажира? — спросил капитан. — Толстого, что вы подобрали утром?
Я вспомнил широко открытые глаза Тараса Остаповича, его отклоненное назад туловище и странно разведенные руки.
— Его же убили, — сказал я, боясь, что капитан подтвердит, и уже понимая, что прав: конечно, убили. Как же иначе можно стоять с рогатиной, упертой в спину?
— Ты поэтому и упал в обморок? — спросил капитан, прищуренно изучая меня.
Я опять вспомнил, как я кинулся навстречу единственному моему знакомому в этих краях.
— Ты, пионер, Толик? — спросил капитан.
— Конечно, — сказал я, — два года.
— Так расскажи мне все. О том, как вы познакомились с Тарасом Остаповичем. Это очень важно.
— Он же мертвый...
— Он по заслугам мертвый. Он наш враг, очень опасный враг, Толя...
Я еще только задумался: могут ли быть опасными врагами такие веселые и смешные люди, как Тарас Остапович, когда заскрипела дверь, и вошел мой отец. Загорелое лицо его было сумрачно, но глаза при виде меня ободряюще дрогнули и засветились.
— Как он? Здоров? — спросил он капитана, подходя ко мне.
Капитан закачался и заскрипел на стуле.
— Голубовский, я ведь не звал вас.
Холодная ладонь отца стиснула и тут же отпустила мой лоб.
— Это мой сын, — сказал он, поворачиваясь к капитану, — и по вашей милости он сегодня не ел и волновался с самого утра.