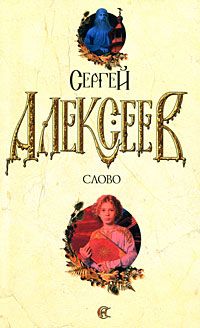— Что там еще? — спросил он, стараясь заглянуть назад.
— Ящик упал! — сказали ему. — Разбился ящик!
Машина остановилась. Никита Евсеевич выругался и заспешил к заднему борту машины.
— Вы хоть придерживайте их! — в сердцах крикнул он и склонился над разбитым ящиком. Старые, желтые бумаги, какие-то книги в коленкоровых переплетах веером рассыпались по земле. Гудошников начал собирать, сгребать их в кучу, оглядываясь по сторонам в поисках пустого ящика. Одна из женщин, спустившись на землю, бросилась помогать.
И вдруг руки Никиты Евсеевича нащупали среди бумаг что-то твердое, объемистое и плохо гнущееся. Каким-то чутьем он угадал, что это пергамент, скорее всего, книга без крышек. Он разворошил бумаги и вытащил серую, неровную по краям сшивку пергаментных листов. В глаза бросилась надпись, сделанная уставным кирилловским письмом. Почти машинально он прочел ее и опустился на землю…
«Древлее письмо, писанное старцем Дивеем, язычником…»
Древлее письмо…
Внезапно ослабевшими руками он открыл сшивку пергамента — вязь каких-то букв, вроде знакомых, но не складывающихся в слова. Строки неведомых слов, красноватые, выцветшие чернила, загрубевший, жесткий и ломкий, как сухой быльник, пергамент…
Древлее письмо…
— Что с вами? Что? — теребила его за плечо женщина из архива. — Худо? Ой, лишенько-о… Да ж помогите кто-нибудь?
Гудошников встряхнулся, обвел глазами двор, дым, курящийся над сгоревшей, черной бумагой, грузовики…
— Встану, — сказал он. — Сам встану.
— В чем заминка-то? — кричал сержант из танкетки. — Поехали! Колонна уходит!
— Едем! — сказал Гудошников, но сам все еще стоял, держа в руках сшивку пергамента. Рассыпавшиеся бумаги из ящика уже собрали и, не упаковывая, подали в кузов.
Гудошникову вдруг стало страшно. Словно усиленный динамиками, бой гремел, казалось, повсюду. В воздухе летали снаряды, что-то там выло, стонало и рвалось с колокольным набатом, глухой, неясный грохот и гул заполонил все пространство вокруг. Ощущение опасности исходило от неба, от домов и деревьев, от земли, внезапно поднятой взрывом, и человек в этом аду казался хрупким и ранимым. Гудошникову вдруг захотелось спрятаться, вернее, любым путем остаться живым, потому что в руках он держал вещь еще более хрупкую и ранимую, чем человек.
Древлее письмо…
Куда его? Куда с ним?
Он, Гудошников, сейчас должен погибнуть! Смерть уже рядом, она уже над ним, потому что в жизни так и бывает: человек, всю жизнь шедший к какой-то истине, найдя ее уже не может жить. Истина, как кусок урана, таит в себе смерть и разит открывшего ее. Он не мог погибнуть там, в Северьяновой обители, потому что не было там «древлего письма…»
А теперь… Уже, наверное, запущен тот снаряд, который убьет Гудошникова и разметает по ветру хрупкую рукопись. Уже, наверное, артиллерист, припав к окулярам бинокля, смотрит, чтобы отметить прямое попадание. И летчик-фашист, бросив самолет в пике, уже держит палец на гашетке…
— Ну что там? Что?! — кричал сержант из танкетки. — Быстрее!
Гудошников, припадая на протез, устремился к нему.
— Сержант, милый мой, дорогой!.. Возьми! Возьми, слышишь?! Меня убьют… Возьми! Возьми и сохрани! У тебя танк, слышишь? Это же сейф, а не машина!
Он протягивал рукопись, навалившись на дрожащую гусеницу. Сержант взял.
— Заклинаю тебя! Прошу тебя — храни! Останусь жив — отдашь мне! А нет — в любую библиотеку, школу или просто людям! Ты понял меня, сержант?! Ты понял?
— Да понял я, — удивляясь, растерянно бросил тот. — Только этот сейф тоже горит…
— Ты не должен сгореть! Это письмо не должно сгореть!
— Понял, поехали! — крикнул сержант.
Оглядываясь, Гудошников заспешил к машине, вскочил на подножку.
Стрельба откатилась куда-то вправо, к вокзалу, а недалеко, за ближайшими домами, била одинокая пушка, воздух колебался и дребезжал. Гудошников сидел в кабине машины, танкетка ползла впереди, юзила гусеницами на поворотах, и шофер потихоньку ругался на нее. Никита Евсеевич не мог оторвать от нее взгляда, одновременно ощущая страстное желание оглянуться назад. Казалось, за последней машиной накатывается невидимая волна, страшная и сокрушительная.
Древлее письмо…
Войск в городе уже не было. Суетились какие-то люди в переулках, проносились одинокие грузовики, лохмотья черного дыма реяли над домами. Ехали долго какими-то неизвестными улицами, совершенно пустынными, и казалось, нет никакой войны, просто занимается раннее утро, и люди еще не проснулись. Когда вырвались на брусчатку проспекта, увидели пушечные стволы, торчащие из кустарников на аллее, мельтешащих возле орудий бойцов, только непонятно было: то ли разворачивают они свою артиллерию, то ли снимают ее.
Неожиданно Гудошников заметил, как навстречу его машине выбежала простоволосая девчонка в гимнастерке и замахала руками, закричала что-то, указывая на дома. Никита Евсеевич, не выпуская из виду танкетку, приказал остановиться.
— Стойте! Ну стойте же! — плакала девчонка-санитарка, хотя машина уже стояла. — У меня там раненые в повозке! Коня убило! Стойте!.. Раненые в повозке.
— Некуда! — взмолился Гудошников. — Весь кузов забит! Ну, куда я их возьму?!
Возле кабины оказалась Зоя, растрепанная, возбужденная.
— Взять надо! — выпалила она. — Взять! Раненые же!
Танкетка остановилась и сдала назад.
— Быстрее! Быстрее! — прокричал сержант. — Улицы минируют!
— Раненых надо взять! — прокричала Зоя. — Вы не посмеете оставить раненых!
— Эх вы… — горько воскликнула санитарка. — Еще орден нацепили! Из-за каких-то ящиков раненых бросаете! Сейчас сюда немцы придут!
Гудошников хотел объяснить, что это не просто ящики, что это документы, по которым потомки будут изучать историю, но говорить в такой ситуации было бессмысленно. Все доводы звучали бы как оправдание. Перед собой и перед девочкой-санитаркой.
А главное, перед ранеными бойцами, беспомощными и наверняка обреченными теперь на гибель. Сейчас их никто в мире не заставит поверить в ценность ящиков, набитых мертвой бумагой…
Гудошников вышел из кабины. Над городом становилось тихо, клубились дымы пожарищ, и лишь где-то далеко игрушечно потрескивала ружейная стрельба. И снова ему показалось: закрой глаза — и никакой войны нет…
— Быстрее, товарищ Гудошников! — торопил сержант из танкетки. — Что вы там еще нашли!
Никита Евсеевич приковылял к заднему борту и резко скомандовал:
— Вылазь! И чемоданы с собой! Остаются только дети!
Из-под брезента показалась голова Солода. Он огляделся, тяжело спустился на землю — губы дрожали, в глазах стояли слезы.