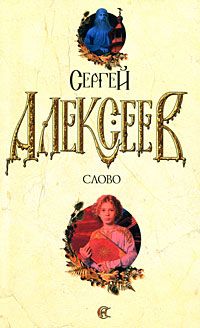Она назвала фамилию, для Кузьмы ничего не говорящую. Кузьма махнул рукой.
— А к нам всякие высокие особы ходят. Карамзин, например, чуть не каждый день бывал.
— Да, мсье, я знаю! Карамзин тоже известный в России человек… Но почему граф не взял с собой эти книги? — Лицо ее было удивленным и растерянным. — Почему он не увез их из Москвы?
— Видно, некуда было взять, — рассудил Кузьма. — И так все телеги нагружены были и в карете добро лежало — не повернуться. Потому меня и оставил здесь — стеречь.
— О, мсье! Вы не понимаете цену… Это очень дорогие книги, — мешая два языка, тараторила француженка. — Они дороже… добра, платья… Это поэзия…
— Я не знаю, почему они не взяли, — уклончиво ответил Кузьма, чтобы не спорить. — Я стеречь приставлен. Я из суворовских солдат буду, окромя войны, ничего не видал…
Сказав это, он сразу вспомнил свою обязанность и метнулся к окну — пусто на Разгуляе…
— Что-то вашего Наполеона не видать, — сказал он, возвращаясь к столу, — плохо мы ему бока в Италии намяли, до России, до Москвы дошел.
— Наполеон в Москве? — напугалась она. — Наполеон пришел?
— Да нет, еще не пришел… Плохо, говорю, бока ему намяли. — Кузьма сел в кресло графа, распахнув халат. — Да с кем мять-то было? Считай, один Суворов и мял.
— Мсье, вы не оставляйте меня! — В ее голосе послышался тот же страх, что был на пустынной московской улице. — Не прогоняйте, мсье! Я вам буду служить!
— Ну уж… служить, — Кузьма подкрутил ус. — Я не барин, чтоб мне служить… Я суворовский солдат. А стрелять ты умеешь? Ну это, — он показал на пистолеты, — пиф-паф?
Гувернантка сжалась, свела плечики, отрицательно помотала головкой.
— Значит, пока Наполеон не пришел, — военную науку постигать будем, — твердо сказал Кузьма. — Берешь пистоль вот так, взводишь курок и стреляешь.
Он выпалил в распахнутое окно, и кабинет наполнился дымом. Француженка испуганно съежилась, зажала уши.
— Ничего-ничего, — подбодрил Кузьма. — Это поначалу страшно, раза три пальнешь, привыкнешь… А что же к своему Наполеону-то идти не желаешь? Твои же соотечественники…
— Нет-нет! — воскликнула она. — У меня… обязательства, господские дети… Я — гувернантка, учительница.
— Ладно, мадемуазель, на-ка пистоль, стреляй!
Она взяла тяжелый пистолет, пугливо отвела его подальше от себя и беспомощно взглянула на Кузьму. Кузьма взял ее руку с зажатым пистолетом, приобнял француженку, прильнул к ее голове, будто целясь, и помог надавить на спуск. Пуля почему-то в окно не попала, а угодила в китайскую вазу на шкафу. Ваза брызнула молочно-белыми осколками и со звоном осыпалась на пол.
— Это ничего, — успокоил Кузьма, хотя вмиг пожалел вазу и обругал себя. — Зато попали метко.
Гувернантка впервые за все время рассмеялась, и от ее смеха запылало, зажгло в груди у суворовского солдата. Чтобы скрыть волнение, Кузьма принес щетку, совок и стал сметать осколки. Однако француженка отобрала у него щетку и сама принялась за дело. Кузьма отметил, что метет она умело, а значит, не ахти какая и барыня, только по разговору да по одежде. Это обстоятельство еще больше вдохновило его.
— А со шпагой — вот так! — Он пофехтовал шпагой и нанес удар воображаемому противнику. — Ну-ка, попробуй.
За шпагу она взялась смелее, махнула ею несколько раз и ткнула в стену.
— Годится, — одобрил Кузьма. — Я думаю, что до шпаг дело не дойдет. Ты, как французы придут, переговоры с ними заведешь, вроде как толмач. Надо им постой — в людскую проводим, пускай живут, пока Кутузов не приедет. Поняла?
— Да-да, — покорно сказала она. — Поняла…
— А уж если полезут — тогда… — Кузьма погрозил шпагой. — Они хоть и твои соотечественники, а мне его сиятельством добро стеречь приказано. Извольте не пугаться, если кровь прольется.
При слове «кровь» она вздрогнула и глянула на Кузьму со страхом, прижав ладони ко рту, покорно закивала. Ее пугливость нравилась Кузьме, тогда он чувствовал себя еще более храбрым и сильным, даже о хромоте забывал.
Закончив военные упражнения, Кузьма ощутил сильный голод. «Вот бы каши сейчас котелок, — помечтал он, — да сдобрить бы ее маслом…» Француженка, понимая, что обучению пришел конец, снова взялась за книги, и страх ее мгновенно исчез, глаза заискрились, заблестели.
— Я пойду на кухню кашу варить, — помаявшись от безделья и голода, сказал Кузьма. — Ты, мадемуазель, читай, читай…
Она бросила книгу и вцепилась в его халат.
— Не оставляйте меня, мсье! Я боюсь одна… Дом пустой, мертвый…
— Тогда пошли со мной!
Он привел ее на кухню, усадил с книгой в руках на табурет, а сам принялся разжигать печь, греметь кастрюлями. Но гувернантка отложила книгу и по-хозяйски встала к плите.
— Ты читай, читай, — Кузьма взял ее за талию и отвел к табурету. — А то от тебя жареным пахнуть будет и дымом. А я страсть как не люблю, когда жареным…
Он сварил кашу, заправил ее топленым маслом и, разложив в тарелки, на подносе понес в столовую, как это делалось при графе. Француженка не отставала ни на шаг, боялась даже потерять его из виду. Похоже, натерпелась в одиночестве, бегая по безлюдной Москве, вот и теперь боится. В столовую же Кузьма перенес вазу с яблоками и вино.
— Кушать подано, — сказал Кузьма. — Прошу, мадемуазель.
— Мерси боку, — сказала она и огляделась в поисках салфетки.
Кузьма подхватился, открыл шкафчик и достал целую пачку свежих, хрустящих салфеток.
Трапеза проходила так: Кузьма сидел на месте его сиятельства, гувернантка — по левую руку; он ел по-солдатски, ложкой, запивая кашу вином, и довольно кхекал, она цепляла вилочкой крупинки и бережно подносила ко рту, невидимо пережевывая и глотая. Каши было поровну, однако Кузьма уже умял свою порцию, тогда как в тарелке мадемуазель ее и не убыло.
— Э, так не пойдет, мадемуазель, — сказал Кузьма. — Бери ложку. А то смотри-ка, дошла как. Ешь, поправляйся.
Она поняла это как волю господина и, взяв ложку непослушной рукой, стала есть. Она дрожала, жмурилась, стискивала зубы, проглатывая, но ела.
— Ишь, как изголодалась, — приговаривал он с отеческой лаской. — Ешь, кушай… Да все эти штучки, — он передразнил движения ее рук, — отбрось. Господ-то нету, а без них можно запросто кушать… У тебя отец-мать кто?
— Портной, — давясь, промолвила она. — Парижское платье…
— Ну, видишь, знамо, люди простые. Вот и ешь, как у себя дома ешь, без стеснения… Господа-то твои, что — плохо кормили?
Она ответить не могла…
— Видно, плохо, — определил Кузьма. — А я-то из вольных крестьян, смоленский я… А теперь вот у его сиятельства служу, при месте, холостой еще, а лет мне тридцать четыре… Его сиятельство уже старый, шестьдесят восемь минуло… Вот… И денег я собрал, есть деньги… Тут еще граф-то, отъезжая, двадцать рублей серебром дали. Сказали, еще дадут, когда вернутся. Ты, Кузьма, сказали, стереги, приглядывай, вернусь — от всего сердца награжу.