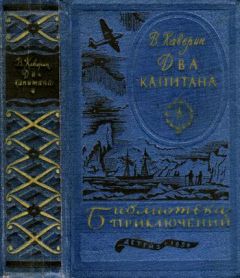Вот и горы! Они торчали из облаков, освещенные солнцем, то голые, то покрытые ослепительным снегом. Я видел в зеркале, как Лури поднял руку, как будто поздоровался с ним, и что-то закричал доктору, и доктор, смешной, похожий на какого-то круглого забавного зверя, равнодушно кивнул головой.
В редких просветах были видны ущелья — прекрасные, очень длинные ущелья, — верная смерть в случае вынужденной посадки. Я невольно подумал об этом, а потом снова стал сочинять письмо, и сочинял до тех пор, пока мне не пришлось заняться другими, более срочными делами.
Как будто и ветра не было, когда первые огромные тучи снега стали срываться с вершин и кружиться, поднимаясь всё выше и выше.
Зеркало, в котором я только что видел доктора и Лури, вдруг потемнело, замерзло, а еще через десять минут уже нельзя было вообразить, что над нами только что было солнце и небо. Теперь не было ни земли, ни солнца, ни неба. Все перемешалось. Ветер догнал нас и ударил сперва слева, потом в лоб, потом снова слева, так что нас сразу унесло куда-то в сторону, где тоже был туман и шел снег, мелкий, твердый, который очень больно бил по лицу и сразу вцепился во все петли и щели одежды. Потом наступила ночь, так что, когда я снова посмотрел в зеркало, я больше уже ничего не увидел. Ничего не было видно вокруг, и некоторое время я вел самолет в полной темноте, как будто натыкаясь на стены, потому что всюду были настоящие стены из снега, со всех сторон подпираемого ветром. То я пробивал их, то отступал, то снова пробивал, то оказывался далеко под ними. Это было самое страшное — самолет вдруг падал на полтораста — двести метров, а я не знал, какой высоты были горы, почему-то не отмеченные на моей карте. Все, что я мог сделать, — это развернуться на сто восемьдесят градусов и пойти назад к Енисею. Я увижу берега, пройду над высоким берегом, и мы обойдем пургу или, в крайнем случае, вернемся назад в Заполярье.
Легко сказать — развернуться! Самолет почему-то затрясло, когда я дал левую ногу, и нас снова бросило в сторону, но я продолжал разворачиваться. Кажется, я что-то сказал машине. Именно в эту минуту я почувствовал, что с мотором творится что-то неладное, — жаль, потому что внизу были те же ущелья, которые — я очень на это рассчитывал — остались далеко позади. Они мелькнули и пропали, потом снова мелькнули — длинные и совершенно безнадежные, — нас бы не нашли, и никто бы никогда не узнал, как это случилось. Нужно было уйти от них, и я ушел, хотя самолет был то взвешен в воздухе, как будто эта проклятая пурга задумывалась на секунду, что бы еще с нами сделать, то болтался и шел как хотел. Я ушел, но с мотором все-таки творилось что-то неладное, и нужно было садиться. Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, и не допускать кренов, и все время думать о земле, которая где-то внизу, и неизвестно, где она и какая. Что-то стучало у меня в голове, как часы, я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая-то масса пронеслась рядом с самолетом; я бросился в сторону от нее и чуть не царапнул крылом о землю.
Не стану рассказывать о тех трех сутках, которые мы провели в тундре, недалеко от берегов Пясины. Это одно из самых тяжелых воспоминаний в моей жизни, и, главное, это — однообразное воспоминание. Один час был похож на другой, другой — на третий, и только первые минуты, когда нам нужно было как-то укрепить самолет, потому что иначе его унесло бы пургою, уже не повторялись.
Попробуйте сделайте это в тундре без всякой растительности, при ветре, достигающем десяти баллов! Не выключая мотора, мы поставили самолет хвостом к ветру. Пожалуй, нам удалось бы закопать его, но стоило только поддеть снег лопатой, как его уносило ветром. Самолет продолжало швырять, и нужно было придумать что-то безошибочное, потому что ветер все усиливался и через полчаса было бы уже поздно. Тогда мы сделали одну простую вещь (рекомендую всем полярным пилотам): мы привязали к плоскостям веревки, а к ним, в свою очередь, лыжи, чемоданчики, небольшой ящик с грузом, даже воронку, — словом, все, что могло бы помочь быстрому завихрению снега. Через пятнадцать минут вокруг этих вещей уже намело сугробы, а в других местах под самолетом снег по-прежнему выдувало ветром.
Теперь нам больше ничего не оставалось, как ждать. Это было не очень весело, но это было единственное, что нам оставалось. Ждать и ждать, а долго ли — кто знает!
Я уже упоминал о том, что у нас было все для вынужденной посадки, но что станешь делать, скажем, с палаткой, если просто вылезть из кабины — это сложное, мучительное дело, на которое можно решиться только один раз в день и то только потому, что один-то раз в день необходимо вылезать из кабины.
Пальцы начинали болеть, прежде чем удавалось развязать шнурки на чехлах, и приходилось развязывать шнурки в три приема. Снег с первого шага сбивал с ног, так что нам пришлось выработать особый способ ходьбы — с наклоном в сорок пять градусов против ветра.
Так прошел первый день. Немного меньше тепла. Немного больше хочется спать, и, чтобы не уснуть, я придумываю разные штуки, которые берут очень много времени, но от которых очень мало толку. Я пробую, например, разжечь примус, а Лури приказываю разжечь паяльную лампу. Трудная задача! Трудно разжечь примус, когда ежеминутно чувствуешь с ног до головы собственную кожу, когда вдруг становится холодно где-то глубоко в ушах, как будто мерзнет барабанная перепонка, когда снег мигом залепляет лицо и превращается в ледяную маску. Лури пытается шутить, но шутки мерзнут на пятидесятиградусном морозе, и ему ничего не остается, как шутить над своей способностью шутить при любых обстоятельствах и в любое время.
Так кончается первая ночь. Еще немного меньше тепла. Еще немного больше хочется спать. А снег по-прежнему несется мимо нас, и наконец начинает казаться, что мимо нас пролетает весь снег, который только есть на земле…
Я снова оценил доктора Ивана Иваныча в эти дни, когда мы «куропачили» — так это называется — у берегов Пясины.
Сознание полной бездеятельности, полной невозможности выйти из безнадежного положения — вот что было тяжелее всего! Кажется, было бы легче, если бы я не был так здоров и крепок. Это чувство перемешивается с другим невеселым чувством: я не выполнил ответственного поручения. А это — еще и с третьим, которое никого не касается, — с чувством оскорбленной гордости и обиды… Вот настроение, при котором нет аппетита и, в сущности говоря, не так уж страшно замерзнуть.