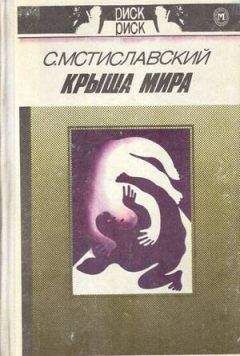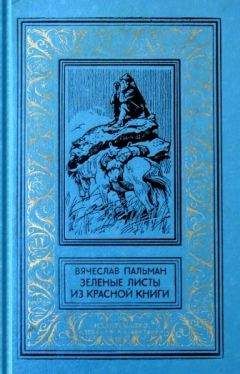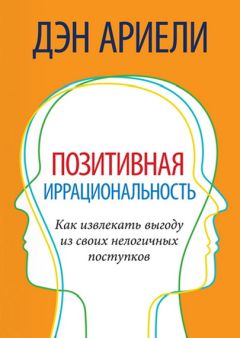До моста. Спускаемся в ручей, топчемся у брода: закрепляем след, идем вниз по течению, оступаясь на каменистом дне, с версту, должно быть. И — кругом, межою, — гуськом на старую дорогу. Опять вскачь. Кишлак спит. Долго выводим коней у околицы. Обтерли насухо попонами. К месту. У коновязи свои: стерегут Аримана. Его не брали: очень уж приметен.
— Следа не оставили?.. Ничего не обронили по дороге?
— Обронил, — смеется Багирма. — Касим-баеву шапку. Киргизскую. Выменял когда-то на кочевьях. Не пожалел отдать за горло Рахметуллы.
Смеется. А у меня на душе темно и стыдно. Надо было самому, одному. Все было бы иначе.
* * *
Прячу во вьюк бешмет, чалму. Ложусь рядом с Жоржем на спину, руки за голову. Теперь и до свету недолго.
Мысли бегут, торопятся в обгон. По-детски. Не уложить их ученым строем. А ведь надо…
Как теперь дальше?
…Не здесь… Здесь — кончено. Нет, у себя, когда вернусь. Ведь сейчас я — у начала пути. Только у самого начала…
Искать уже не нужно. Путь — знаю. Нарушителем сделала меня Тропа… Теперь — только идти… Это для меня твердо. До конца идти — Нарушителем…
В нарушении — правда. Но Правда — одна: Красота.
О Красоте — знаю твердо. Только сказать об этом не сумею: пока нет еще у меня, у нас — настоящего слова: о Правде-Красоте, Единой Правде. Нет — до времени…
Вечно не скованным будет
Меч, что Деве даст имя…
Как может Азис жить с такими мыслями?..
Красота — в Нарушении. Потому что она — живая: она — против заповедей.
Сколько их — заповедей! Но одна — я знаю верно, твердо — главная; ее первой надо сломать. Заповедь «тигрового закона»…
«Тигровый закон». Это слово Восток придумал: Бальджуан, Белый князь. На Западе по-другому: «пауки и мухи»…
«Тигровый закон» — звучит лучше: подлинно — закон борьбы. Хорошо. Ясно. Человек против тигра.
Ломать тигровый закон…
Только вот… Я и себя — только теперь, на Тропе, стал узнавать, а там, дома, я никого ведь не знаю: ни своих, ни чужих…
Неужели опять придется Тропой… одному…
Может быть… Не все ли равно: ведь «за себя» — значит «за всех». Иначе идти нельзя. Будет ложь, красоты не будет. Стало быть, не будет жизни.
Вот так я и пойду…
Знаю. По-детски это. Но ведь мы только что убили Рахметуллу.
* * *
На душе опять стало тихо. И солнечно. Значит, решил верно.
Повертываюсь на бок, засыпаю. Крепко, до позднего утра.
За утренним чаем пишем письмо старому беку Каратегинскому: о нашем прибытии, с пожеланием счастья. Я в Гарме только одну ночь хочу провести, а прибудем мы в Гарм вечером. Значит, уедем без бековского приема. Надо это объяснить ему, надо ласковые слова какие-то написать, не то обидится старик понапрасну. Но его, б е к а, не хочу я видеть…
Жорж подсвистывает в насмешку:
— Тигровый закон — закон вечный!
Пишет письмо джевачи: он — мастер. Быстро и четко нанизывает арабески почтительных, пряных слов. На поклоне Амиро-Сафида (я вспомнил поручение Белого князя) его окликнул из-за двери старшина.
— Великое горе, таксыр! Киргизы-барантачи — разбойники убили Рахметуллу в Карасу-Мазаре!
Джевачи уронил калям[9]:
— Такого человека!
— Сам бек выехал в Карасу. Что думает делать таксыр? Седлать ли коней на Гарм?
— Нету о том и мысли! — поспешно говорит Джафар. — Если бек будет в Карасу, значит, и нам туда ехать. Таксыр мудр: ужели не воздаст он Рахметулле смертную почесть по заслуге.
* * *
В Карасу загостились: затянулось следствие об убийстве Рахметуллы. Правда, сомнений в том, что убит он заезжей киргизской шайкою, ни у кого не было: в саду нашли лисий киргизский колпак, караульные и бача показали: своими глазами видели — скуластые, глаза раскосые, ни бороды, ни усов… По всем приметам — алайцы. Надо думать — за Кара-батыя счет. И след их даже умудрились разыскать — от брода по степи к Заалайскому хребту. Видимо, ушли в горы. Теперь их ни за что не найти.
К тому же все три следователя (троих, для большей значительности, назначил бек) — надо по совести сказать — не проявляли особой ревности к раскрытию преступников. Но для приличия они тянули дело. Бек дожидался конца. И мне не хотелось уезжать, не убедившись окончательно, что гиссарцам не грозит уже никакой судебной опасности…
Жорж сердится.
— То — гнал сломя голову, то сидишь без всякого толку на месте. Срам. Весь виноград в саду объели. Саллаэддин стал поперек себя толще…
* * *
Ночью, под луной, мы шли с Жоржем по аллее под свисавшими виноградными лозами. Терраса светилась. Мы свернули к ней сквозь фиговые кусты, сквозь розовую заросль. Кто-то раздувал чилим у жаровни.
И вдруг — песнею дрогнула ночь. Из тысячи узнаю я эти струны…
Птица залетная, сокол, ясный алмаз поднебесья…
Азис!
Мы остановились, слушая.
Шел, опоясанный сталью, горной тропой, одинокий…
* * *
Я указал Жоржу на край лужайки.
— Нас было здесь шестеро. Трое зашли с того края. Трое бросились с этого места.
Он снял очки. Подышал. Протер стекла. И только потом спросил:
— Это у тебя не порывом вышло?
— Нет, Жорж. По закону.
Глаза его блеснули под очками.
— Но ведь закон этот не для Бухары одной? Он ведь и для России! Ведь и там не легче!
— А разве мы не возвращаемся домой?
Он посмотрел на меня пристально.
— Ты знаешь, что говоришь?
— Знаю.
* * *
Азис начинал новую песню.
Мстиславский С. Д.
М 89. Крыша мира. — М.: СП «Вся Москва», 1989. — 224 с. — Серия «РИСК»
ISBN 5-239-01048-Х
Разработка серии Р о м а н а П о д о л ь н о г о
Тираж 200 000 экз. Цена 5 р.
Редактор М. Р о м а н ч у к
Корректор Л. Х а р а з о в а
Технический редактор С. У с т и н о в а
Текст подготовил Ершов В. Г. Дата последней редакции: 14.05.2002
О найденных в тексте ошибках сообщать: mailto: [email protected]
Новые редакции текста можно получить на: http://vgershov.lib.ru/
Известна горькая судьба царской семьи в 1918 году. Вряд ли кто усомнится, что никакие высшие соображения не могут оправдать гибель невинных детей. Но в ней Мстиславский не повинен. И не будем забывать, сколько тысяч других невинных детей погибло в гражданскую войну в городах и деревнях по всей стране, по вольной или невольной вине каждой из противоборствующих сторон.