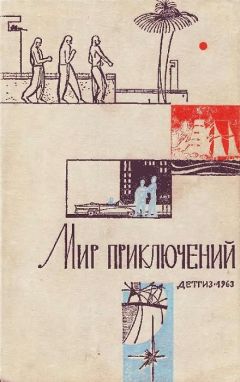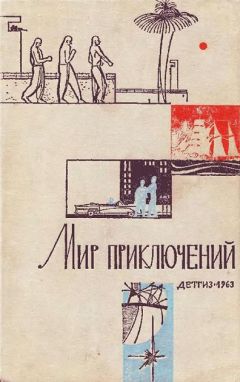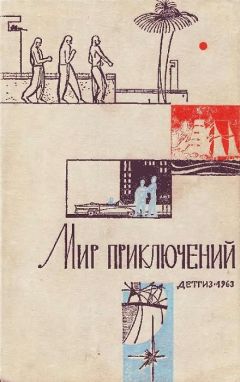Договорившись обо всем, они бросили в шапку три свернутые трубочкой бумажки — две пустые, на третьей написано: “Ты”. Жребий должен был избрать убийцу. Бумажка со словом “ты” досталась Гарнику.
И той же ночью они пошли в переулок. Они были трезвые. И даже, пересиливая внутреннюю дрожь, пытались шутить друг с другом. И они все сделали бы, как задумано, если бы я последнюю минуту не отступили, испугавшись ненужного риска…
Гарник взялся рукой за очки. Сейчас он их снимет — и тут же двое, разместившиеся позади, бросятся на пилота. Дай бог, чтобы у этого человека, сидящего за штурвалом, оказался хороший характер.
“Пожалей нас, летчик! Не заставляй нас убивать тебя!”
В кармане у Гарника маленькая бутылочка с этикеткой “нашатырный спирт”. Жорж приметил бутылочку, когда ехали на аэродром. “Для чего тебе это?” — “Это для Лаврентия, он ведь плохо переносит самолет, так вот это для того, чтобы подбодрить его в воздухе, привести в чувство”. — “Ты все предусмотрел!” Лаврентия растрогала забота, и он с благодарной улыбкой пожал Гарнику руку.
Так они ничего и не поняли. А если бы поняли, то Жорж в самую последнюю минуту отменил бы полет.
Меньше всего Гарник думал о Лаврентии Бабуян. Нашатырный спирт нужен для летчика.
Ведь никто из них не знает всей правды о предстоящем рейсе. Всю правду знает только Гарник. А правда состоит в том, что он не сможет перевести самолет через границу и посадить его на аэродроме чужой страны. Вот почему летчика, даже если его придется избить, изрезать, надо будет привести в чувство, сунув под нос ему флакон с нашатырным спиртом, и заставить посадить самолет.
Но этого пока никто не знает…
Ведь Гарник только чуть-чуть научился у Бориса Махмудова управлять машиной в воздухе. Умеет повернуть направо, налево, может набрать высоту, вести прямо вперед. А вот посадить на дорожку аэродрома — тут уже требуется искусство пилота. Гарник никогда этого не делал. Ах, как трудно ему — он должен скрывать от приятелей свое неумение. Скажи он им, что не сможет совершить посадку, и они откажутся лететь. Только теперь-то уже поздно, они уже в самолете, дело почти сделано. Отступления нет. Гарник всю ответственность взял па себя.
А Жорж ничего не знает. Говорит, что проще всего сразу же прикончить летчики, если он не захочет попять…
А летчик сидит рядом и вообще ничего не знает, не подозревает, что через несколько секунд он станет игральной картой в руках людей, смело ломающих свою судьбу…
Один только Гарник все до конца знает…
Подчинись нам, летчик! Посади самолет, а потом можешь хоть тут же умереть от разрыва сердца.
Если он не подчинится, придется пустить ему кровь. Тогда Гарник возьмет в свои руки штурвал. Потом — дадут пилоту понюхать нашатырь, он откроет глаза и увидит, что Гарник ведет машину, Гарник справляется. И тогда пилот поймет, что могут обойтись и без него. Что ему останется? Только подчиняться. У него не будет выхода.
В крайнем случае, уже после того как граница останется позади, Гарник ему шепнет: “Сажай машину, друг, я не умею!” И летчик возьмет штурвал. Как же иначе? А то ведь все погибнут. Жизнь всегда стоит того, чтобы спасти ее любой ценой.
Ну, все. Пора!
Прожитые Гарником Мисакяном двадцать три года — только подготовка вот к этой страшной и все решающей минуте, которая сейчас наступает. Через день газеты всего мира будут печатать его портреты…
И Гарник снимает очки…
Жорж Юзбашев
Он сидел, привалившись плечом к тонкой вибрирующей стенке и ждал условленного сигнала. Он думал: “А стоило ли мне вообще ввязываться в эту историю?”
Сейчас, когда он не следил за собой, с его лица сошла обычная добродушная улыбка, и оно стало сосредоточенно-беспощадным. Если бы летчик внезапно обернулся и застал его врасплох, то по выражению этого страшно изменившегося лица он смог бы догадаться, что вместе с этим пассажиром в кабину самолета вошло преступление.
Жоржу не сиделось на месте. Время от времени он протягивал вперед тяжелую руку, приподнимался на секунду и снова отваливался назад.
Чего ему не хватало в жизни? Ведь он с легкостью получал все то, чего другие добивались годами упорства и труда.
Детство у него было тяжелое, это правда. И в юность он вошел с клеймом уголовного преступника. Но разве это помешало хоть какому-нибудь из его намерении? Нет!
Как и все другие городские ребята его возраста, он кончил школу. После этого его призвали в армию. Он сразу сообразил — армия не для него! Но что он ни придумывал, как ни отбрыкивался на призывной комиссии, все было напрасно — ничего не получалось. Он попытался даже заявить, что не может служить в армии по своим религиозным убеждениям. Его разоблачили, но устыдить не смогли. Он прибегнул к испытанному средству — попробовал заинтересовать одного из сотрудников военкомата взяткой, но это не помогло.
А все-таки ему удалось уклониться от службы в армии. С первых же дней, как только он попал за пределы Армении, в воинскую часть, где люди его совершенно не знали, он прикинулся душевнобольным. Конечно, он понимал, что при нынешнем уровне медицинских знаний симулировать психическое расстройство очень трудно. И тем не менее решился на это. Он подготовился — прочитал несколько книг, осторожно поговорил со знакомым врачом. И затем так точно, так убедительно изобразил психическую подавленность и неуравновешенность, резкие, истерические переходы от одного настроения к другому, что спустя два месяца его, здоровяка и спортсмена, демобилизовали и направили домой.
Но нет, домой ему не хотелось. Какой там дом! У него появились совсем иные планы. Разве это случайность, что ему так здорово удалось сыграть придуманную роль полусумасшедшего? Конечно, нет. Ведь все ему поверили. Он по признанию актер! А разве не все ему равно, на каком поприще выдвинуться — сокрушать в кровь скулы противников по боксу на ринге или на театральных подмостках принимать восторженные аплодисменты зрителей после блестяще сыгранной роли?
Он поехал в Нагорный Карабах — в тамошнем театре у него были друзья-приятели. Ему помогли устроиться в труппу районного театра. Послушав, как он читает стихи, режиссер сказал: “Если даже не обнаружится таланта, то за одну такую фигуру, за мужественность и щедрый рост стоит платить деньги!”
Но способности-то, во всяком случае, у него были. Он мог бы кое-чего добиться в театре. Его смутила маленькая зарплата и испугала большая работа. Вопреки тому, что он прежде слышал об актерах, работа их была тяжелая.
Это был поистине трудовой хлеб. Утром и днем — репетиции. Тысячу раз повторяешь одну и ту же фразу, чтобы она наконец зазвучала как надо. Вечером — спектакли. Если не занят в основном спектакле, который дается на сцене театра, поезжай с бригадой и играй на подмостках какого-нибудь колхозного клуба.