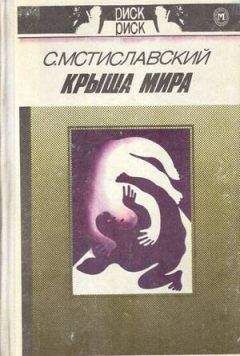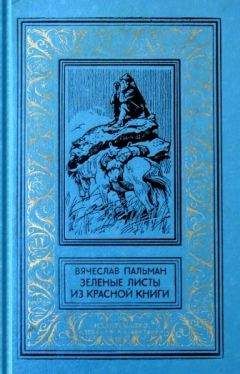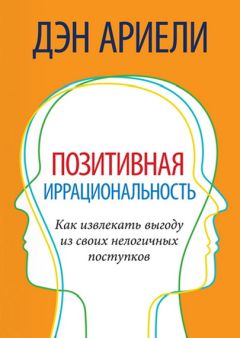Дальше в закоулки — сквозь щели ставен видны согнувшиеся над стаканом с костями оборванные фигуры игроков; еще дальше, еще глуше — совещающаяся над бутылью мутного, кислого пива воровская шайка: «красноногими» зовут их в Туркестане; дальше: на циновках, спиной привалясь к обмызганной, грязной стене, застыло чернеют полутрупы — курильщики опия. Для гашиша — помещение другое: он возбуждает, гашиш. Дав накуриться, хозяин выводит на улицу пьяных, одержимых гашишем. При встрече их видно далеко: идут, высоко поднимая ноги, соломинка на дороге кажется бревном, вывороченный из мостовой булыжник — скалою. На ровном месте — прыжок. Скрестить с ним взгляд — опасно: в дрожании губ неприметном — почудится смертельная обида. Но здесь у каждого на поясе нож.
Туземный Самарканд трезв. Сарт, замеченный в нетрезвом состоянии, на неделю отправляется в арестный дом — миршабхану — без различия чина и звания. Пить дозволено только здесь, в темных кварталах. В ночь дребезжат поэтому по камням грязных, замусоренных мостовых коляски на кутеж приехавших молодых «баев» — «золотой молодежи» самаркандской. Здесь для них нет ни в чем запрета: и водка, и пиво, и вино… Но если кого-нибудь из них поднимет после утренний полицейский обход на улице или в арыке с перерезанным горлом, — тщетно стал бы искать отец убитого расследования и наказания за убийство. «Кто идет в эти темные кварталы, принимает их закон — закон ножа. Он сам за себя отвечает — никто больше».
* * *
От красноногих — к прокаженным: их под Самаркандом целый поселок — Махау-кишлак. Выходят за милостыней на караванную дорогу, сидят длинным рядом, в белых одеждах, в белых повязках, чтобы далеко было видно. У каждого посох, трещотка и деревянная чашка, в которую бросают им на быстром ходу подаяние… Лица — страшные; у иных до кости проедено язвою мясо, череп обнажен, ни подбородка, ни губ — одни глаза смертию смотрят из-за желтеющих скуловых костей и надбровных дуг…
И в кишлаке у них жуть: точно большая разрытая могила. Цветники усиливают сходство.
При нас пришли от Махау-кишлака выборные на базар за покупками… Шли — широкой улицей расступалась перед ними толпа. У лавок с красным товаром присмотрели материю (весь ряд опустел на это время), сторговались. Купец отмерил бязь, бросил на середину дороги; прокаженные положили рядом деньги, тщательно отзванивая, броском на землю, каждую монету. Потом забрали товар и ушли. А купец — палочкой — долго-долго перетирал деньги накаленным песком дороги, перевертывая их со стороны на сторону. Наконец взял, обернув тряпкою руку, положил на стойку, в сторону, особой стопкой: в первую очередь пойдет покупателю в сдачу…
Базар здесь бесконечен: на версты. Найти можно все, от иголки до верблюда, от древнейшей чеканки кумгана (медного кувшина для воды) до самоновейшей зингеровской швейной машинки «в рассрочку». Все племена, все расы. Конные, пешие, ишаки под вьюком, женщины под черными волосяными сетками, в серой одежде, строго одинаковой для всех — так, чтобы муж собственной жены не мог отличить от прочих женщин; бродячие монахи-дервиши в кожаных косматых колпаках; факир со змеями, афганец с ручной обезьяной, фокусники, мороженщики, полицейские — сплошной толпой движутся по широким торговым рядам; каждому производству — особый ряд, особая улица. И дико-странно: при движении этом — совершенная почти, поразительная тишина. Густая лессовая пыль глушит шаги и перестук копыт; голосов почти не слышно: громко говорить на улице непристойно. Тих поэтому многотысячный базар. И даже чой-ханэ, перемежающие лавки на каждом перекрестке базара, переполненные народом, странно, неприятно молчаливы.
Только на перепелиных и петушиных боях теряет туземец свою степенность. Смотрели мы и эти бои.
Вот и все: кажется, нечего больше «смотреть» в Самарканде.
* * *
На всю предварительную волокиту ушло около двух недель. Отъезд удалось назначить лишь на десятое мая, в среду, в пять часов утра.
Но выехать в этот день не удалось. Во вторник, под вечер, в наш номер, где мы уже закручивали последние куржумы, явились два офицера. Припомнилось: мы встречались как будто на танцах в военном собрании раз или два. Офицеры были в свежих кителях, при оружии и даже в белых перчатках. Не без некоторой торжественности передали они нам приглашение на стакан чаю к командиру Н-ского линейного стрелкового батальона. Батальон этот — здешняя, так сказать, гвардия.
Мы невольно переглянулись с Жоржем: какое, в сущности, дело до нас батальонному командиру? Но старший из прибывших, адъютант, немедля рассеял наше недоумение.
— Вы понимаете, — он закинул руку за аксельбант свободным и чуть игривым движением и пристукнул шпорой на лакированном сапоге, — мы, туркестанцы, экскюзе, немного верблюды, конечно. Но отпустить столичных гостей в далекое странствование по здешним гиблым местам без некоторых, так сказать, местных проводов — было бы совершенно неколлективно. Тем более, что… — неожиданно закончил он приятнейшим баритоном: — Тореадор — солдату друг и брат.
При такой постановке вопроса нам, «тореадорам», ничего не оставалось, как, в свою очередь, надеть свежие кителя. Мы отправились все пятеро: офицеры таким же порядком ангажировали Фетисова, Басова и Алчевского.
Батальонный — лысый, грузный, с обвисшими седыми усами полковник — встретил нас с радушием чрезвычайным. Вокруг стола с чаем, вареньем и фруктами — без всяких признаков спиртного — сидело человек десять офицеров, от морщинистого капитана до совсем безусого розово-коричневого подпоручика. Все — начисто выбритые, парадные. Дело принимало скверный оборот: что может быть хуже провинциального «раута»?
Разговор, едва завязавшись, сразу перешел на охотничьи темы.
— Вот он, — похвастался батальонный достопримечательным офицером, — шестерых уже тигров убил. Ей-богу, с места не встать.
«Достопримечательный» — щетинистый штабс-капитан — учтиво и поспешно вынул изо рта посланный было туда ломоть хлеба с медом.
— Так точно, — подтвердил он густым басом. — Но ничего особенного. У меня, знаете, штуцер — английской работы: черту лопатку пробьет, будь я четырежды сукин сын. Из такого ружья убить не штука. А вот был у нас при команде сартюга — из туземцев здешних — ну совершеннейшее, по-дамски говоря, дерьмо, так он из паршивенького, изволите ли видеть, мултучка — кремневое ружьишко — только ишаку под хвост совать, вся от него возможная поэзия — девятнадцать тигров убил. Как мух! Свидетель Николай-Чудотворец. Палил бы и сейчас, но погиб безвременно от культуры.