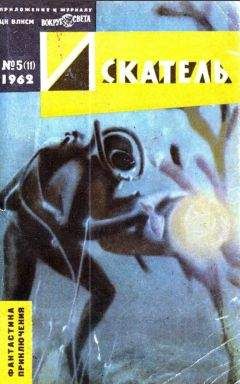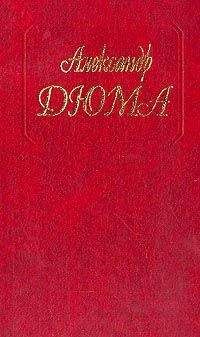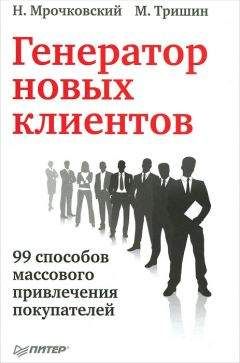Покончив с ужином, устраиваемся на ночлег. Снова начинает зудеть ссадина на голове. Надо бы ее перевязать, но сейчас это невозможно. Слева от меня лежит Риттер, справа под рукой автомат.
Стынут ступни. Я вытаскиваю спальный мешок, засовываю туда ноги.
Мороз дает о себе знать. Риттер ворочается, встает, снова ложится. Наконец садится и пытается прикрыть ноги полой меховой куртки. Я не выдерживаю. Мешок широкий, в нем еще много места.
— Идите сюда, — говорю я, расправляя мешок. — Комм хир! — Какую-то секунду лейтенант колеблется, но, наконец, решается. Он даже снимает сапоги.
— Хенде! — приказываю я. — Дайте руки!
Лейтенант настороженно протягивает руки. Я связываю
их у запястья, но не туго, так, чтобы он мог все-таки двигать ими. Мы вытягиваемся рядом в одном мешке.
Риттер шевелит ногами, устраиваясь поудобнее. Потом поворачивает ко мне голову.
— Табак! — говорит он. — Сигарет!
Это первые услышанные мной слова. Я достаю сигарету, подношу ее прямо ко рту лейтенанта.
— Фоер! — просит он, щелкнув пальцами.
Протягиваю Риттеру его собственную зажигалку, закуриваю сам.
Лейтенант затихает. Сквозь сапоги чувствую тепло его ног. В бок больно упирается неудобная треугольная кобура парабеллума. Вынимаю пистолет, потом все-таки вкладываю его обратно. Так лучше. Пусть мешает. Меньше шансов заснуть. Спать мне нельзя.
Риттер, докурив сигарету, поворачивается на бок. Кажется, он даже пробурчал что-то вроде «доброй ночи». Через минуту слышится его мерное посапывание. Но я не очень доверяю безмятежному посапыванию лейтенанта.
Я жду. Жду полчаса, час. Воет пурга. Снег падает на лицо. Риттер уже похрапывает во сне. Проходит еще час и, наконец, я решаюсь произвести эксперимент.
К храпу лейтенанта присоединяется мое посапывание. Я даже присвистываю «во сне». Проходит минута, другая, третья… Лейтенант по-прежнему храпит. Кажется, он действительно заснул… И вдруг — осторожный толчок. Открываю глаза и встречаюсь с темными кругами очков. Риттер продолжает «храпеть». Поймав мой взгляд, он тут же откидывается назад.
Ну что ж, посмотрим, у кого окажется больше выдержки.
Главное — не думать о сне. Сейчас, например, мне гораздо больше хочется пить. Ловлю ртом холодные снежинки. Воет пурга. Ветер наметает над нашей ямой сугроб.
6
Сугроб закрыл небо. Сквозь узкую щель пробивается тусклый свет. Воет пурга… Сколько мы лежим в этой снежной яме? День, два, неделю? Мои часы стоят. Наверное, в них попала вода. Я пытаюсь восстановить события. Была пурга, и тусклый рассвет сменялся густой темнотой ночи. Несколько раз мы ели. К сожалению, слишком мало. Во второй банке консервов вместо мяса оказалось густое желе, вроде мармелада. Осталось только несколько галет.
Мучительно хочется спать. Рядом мирно сопит Риттер. Но теперь я хорошо знаю, что он тоже не спит. Больше я не провожу экспериментов. Последний едва не стоил мне жизни. Несколько раз я притворялся спящим и каждый раз, почувствовав толчок, встречался со взглядом лейтенанта. Тут я не услышал толчка. Просто, закрыв глаза, сразу провалился в темную пропасть. Какая-то последняя клетка судорожно сопротивляющегося мозга заставила меня очнуться. Я поймал руки Риттера на кобуре пистолета. У меня в запасе был автомат, и лейтенант отступил.
Он ждет своего часа. Он не шел через весь остров пешком, не питался юколой, и у него нет даже царапины на теле. Надо было сразу накрепко связать ему руки. Сейчас, пожалуй, мне это уже не под силу. Я уверен, что смогу взять верх в тесноте нашего логова. Остается только ждать конца пурги. Кажется, стоит умолкнуть шуму ветра, нескончаемому шороху несущегося по равнине снега, и сейчас же перестанет хотеться спать.
Вообще надо думать о чем-нибудь другом. Интересно, например, зачем забрались на этот пустынный островок немцы? Что они делали на ничьей земле? Была эта станция единственной, или где-то они высадились еще? На «Олафе» я слышал немало рассказов о немецких рейдерах, пиратствующих на Севере. Среди них были крупные корабли вплоть до линкора «Тирпитц» н крейсера «Адмирал Шеер». Я подумал, что лейтенант Риттер мог бы оказаться бесценной находкой для работников союзной разведки…
«Ничья земля», — говорил Дигирнес… Как будто могло остаться что-то ничьим в этом расколотом надвое мире. Даже сюда, на Север, где нет никакой жизни, пришла война.
Сколько раз люди объявляли войну последней! И каждый раз начинали ее вновь. Но уж эта-то война обязательно будет последней. Мы не допустим новой. Верно, чтобы уничтожить войну совсем, и идет сейчас на всей земле этот смертный бой.
Потом я стал думать о том, какой станет жизнь после войны. Но тут я как-то ничего не мог придумать. Просто я понимал, что тогда будет очень тепло и никогда не станет сосать под ложечкой от голода. Разве только после долгой хорошей работы. И всегда будет тепло, очень тепло, даже жарко…
Очень жарко… Очень жарко было на той маленькой пыльной площади. Шумел рынок. Он был невелик — всегда два-три ряда, но шумел и играл красками, подобно любому южному базару. Желтые ядра дынь канталупок. иссиня-черные гроздья «изабеллы», полуметровые огурцы, белые со слезой пласты сулугуни. Мы пробираемся между высокими арбами. В них судорожно бьются куры. Мы — это я и Нина. С самого утра мы лазали по холмам вокруг этого местечка под Сухуми.
В фанерной закусочной полумрак и относительная прохлада. Мы садимся за длинный, покрытый клеенкой стол.
Мы очень голодны, и у нас очень мало денег. В меню закусочной единственное блюдо — огненное чахохбили, в котором мало мяса и много нестерпимо острого соуса. Наших денег хватает только на одну порцию, так как нельзя удержаться от соблазна выпить холодного легкого вина. Но на столе стоит свежий чурек, и, если обмакнуть кусочки хлеба в расплавленный огонь соуса, получается великолепное блюдо. Кудрявый красавец в живописно замасленном фартуке ставит перед нами миску чахохбили и бутылку молодого вина.
— Кушай, пожалуйста, — говорит он Пине. — Кушай. Смотри, совсем худой!
Ника смеется. А я удивляюсь. Я не замечаю, что она действительно ужасающе худа, эта до черноты загоревшая девчонка. Не замечаю ни многострадального облупившегося носа, ни протертых на коленях спортивных шаровар, ни нелепых баранчиков кос — говоря объективно, они совсем не украшают мою подругу, но она не признает никакой другой прически. Мне просто приятно смотреть, как она смеется, глотает, обжигаясь, вымоченные в соусе кусочки свежего чурека, пьет мутноватое молодое вино. Я подымаю стакан.