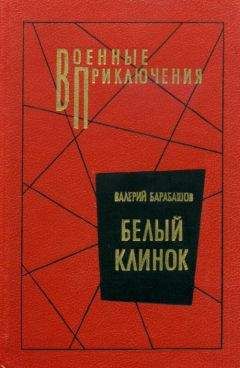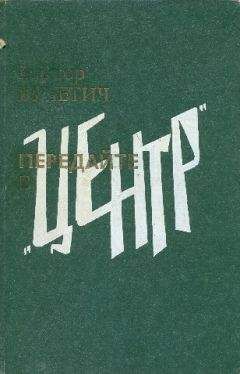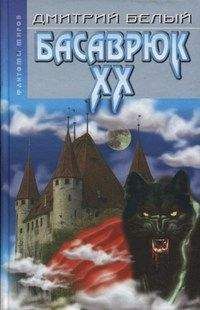Каменка утопала в грязи. Утром, когда его отряд вышел к селу, шел снег с дождем, улицы раскисли, под копытами коня чавкало. Колесников сидел на лошади понурый и страшно усталый, равнодушный ко всему.
У нужного дома он остановился, сполз с коня, сидел некоторое время на завалинке, без особого интереса приглядываясь к вечерней жизни чужого ему села. Чувствовал он себя разбитым, больным и старым. Захотелось вдруг опрокинуться на эту узкую, неудобную даже для сидения завалинку и лежать, лежать, ни о чем не думая, не шевелясь, ничего больше в жизни не предпринимая. Зачем жил все эти сорок с лишним лет? Для кого и для чего? Зачем он здесь, в Каменке? Что ему надо от этой грязной улицы с незнакомыми людьми и этого дома с голубыми ставнями?! Что вообще теперь ему нужно?
С трудом поднявшись, Колесников ввел коня во двор. На злобный лай лохматой рыжей дворняги вышел Ефим Лапцуй, радостно заулыбался, облобызал Колесникова. Сам завел коня в сарай, снял с него сбрую, дал сена. Делая все это, Ефим без умолку говорил: заждались они с хозяйкой, Раисой. Она баба что надо, отказу ни в чем он не знает. И накормит, и обстирает, и все такое прочее. Лапцуй приглушил голос, стал рассказывать скабрезное, и Колесникова передернуло — ну это-то зачем?! Но Ефим разошелся, не удержать.
«Лечь бы, провалиться в тартарары, больше ничего не надо», — думал о своем Колесников.
В Раисином доме воняло самогонкой — видно, гнали недавно. Хозяйка — приземистая, мясистая, большеротая, в засаленной какой-то одежде (черная ее душегрейка лоснилась на животе и грудях), в черном же платке, охватившем овал носатого неприветливого лица, — на гостя глянула угрюмо, на приветствие буркнула что-то нечленораздельное, что можно было истолковать по-всякому. Колесников понял, что, наверное, перед его появлением был у них с Ефимом какой-то грубый разговор. Но Лапцуй делал вид, что ничего не произошло.
— Раис, приголубь-ка дорогого гостечка, — суетился он возле стола, помогая хозяйке. — Человек с дороги, с боев. Садись, Иван, садись! Ох, и выпьем мы с тобою, дорогой мой земляк!
Раиса молчаливо, но проворно накрыла на стол. Молчаливо же засветила лампу, поставила ее на припечек, и теперь желтый свет пал на небогатое убранство дома, на маленькую икону в углу, над столом, на дешевый ковер с белыми лебедями у кровати, занавески на окнах, на недельного, поди, телка в загородке, у печи.
— Ну! Взяли! — торопил отчего-то Ефим, стукал кружкой о кружки Колесникова и Раисы, пил жадно, большими глотками, быстро и радостно пьянел.
Пили за Старую Калитву, за спасение Ефима от расстрела и его подарок — белую шашку. Лапцуй принес ее от порога, где Колесников снял свои доспехи, вынимал и задвигал клинок в ножны, смачно целовал эфес.
— Эх, Иван. Если б не ты — жарили б меня теперь черти на сковороде, жарили! Давно бы уже небо не коптил.
— Ну так што! — бросила вдруг хозяйка и захохотала, откинув голову, обнажив удивительно ровные и белые зубы. — Все б небушко чище было.
— Цыц! — прикрикнул на нее Лапцуй. — Что буровишь? И кто б тебя, квазимоду, тешил?
— А нашлись бы, не сумлевайся. Вашего брата хватает, — с вызовом сказала Раиса и резким движением руки сдвинула со лба платок, глянула игриво на Колесникова.
— Ох, стерва! Ох, стерва! — расслабленно и с лаской в голосе говорил Лапцуй. — А сладкая, Иван! Редкая баба!
Ефим снова налил всем в кружки, выпил первым.
— Ты-то сам где эту шашку добыл? — спросил Колесников. — Купил, что ли?
— Да какой купил! — махнул рукой Лапцуй. — В старой армии награда, стало быть. Бунтовщиков в Питере усмиряли, на фабрике одной. Перед строем командир полка и преподнес. Эх, Иван, памятное дело-то. Строй стоит, меня выкликают, выхожу, душа в пятки — шутка, перед всеми-то! А полковой командир как по-писаному: за доблестное выполнение долга… от имени Его Императорского Величества… Чего-то еще, не помню. У меня аж в глотке драть стало. Принял эту шашечку, гаркнул: рад стараться, ваше благородие!.. А потом у Деникина Антон Иваныча красных комиссаров ею полосовал. Попробовала она кровицы… Эх!
Лапцуй выскочил из-за стола, выхватил клинок, махнул им со свистом. Угрожающе вытаращил на хозяйку дома глаза:
— Хошь, телку за один мах башку срублю, а?
— Себе сруби. Дурак, — спокойно сказала Раиса. А потом поднялась, отняла у Ефима шашку, кинула ее к порогу.
— Ты вот что скажи, — спрашивал Лапцуя Колесников. — Как тут у вас?.. Ну, вообще, разговоры какие, настрой? Вера-то есть?
— Вера есть, — мотнул красивой кудрявой головой Ефим. — Без нее — как жа? Не верить, брат, нельзя-а… Александр-то Степаныч… ох, лютой, враз тебя в яругу отправит. У него это скоро… А по правде, Иван, скоро всем конец. И тебе, и мне, и Степанычу, и стерве этой!
— Сам стерва, — беззлобно отозвалась Раиса, по-прежнему глядя на Колесникова. Подлила Лапцую: — Пей давай!
Ефим послушно высосал еще кружку, заорал вдруг такое знакомое, забытое:
— Меня милый целовал,
К стеночке привалива-а-а-л…
Перешел на родной свой хохляцкий язык, придвинулся к Колесникову, обнял за плечи:
— В яком же цэ году було, Иван? Помнишь: посиделки на Чупаховке, Ксюшка твоя… Ты ж на гармонике грав! Та гарно так, я помню. Плясав ще…
— Мабуть, тринадцатый, — стал вспоминать Колесников. — Да, до мировой войны, я ще не служив. А, чого теперь!.. Скажи лучше: на Степаныча надёжа есть? Сила ж у него немалая.
— На Степаныча надейся, а сам не плошай! — засмеялся Лапцуй, загорланил снова:
— Мой миленок как теленок,
Кучерявый как бара-а-н…
Лицо Ефима передернула страдальческая гримаса, он полез с объятиями к Раисе, а та отбивалась, толкала его локтями.
Скоро Лапцуй тут же, за столом, заснул; Колесников с Раисой оттащили его к кровати с белыми лебедями на ковре, сняли сапоги.
— А тебе я на печи постелила, — сказала хозяйка.
Осклизаясь неверными ногами, Колесников полез на печь, ткнулся головой в овчину, тут же провалился в сон. Но спал недолго: почувствовал, что с него стаскивают одеяло.
— Ты, что ли, Рая? — хрипло спросил он, вскинул голову.
— Дак кому больше-то! — с тихим смехом ответила женщина. — Двое мужиков в доме, а я бобылкой спи. Ну-ка, хохол, подвинься. За постой, поди, платить надо.
А, все одно. Платить так платить…
Вокзальный милиционер сообщил чекистам, что с тамбовского поезда сошли два человека, один из которых похож по приметам на Языкова — у него слегка опущено левое веко и соответствует одежда. Второй же, по выправке военный, на карточку не совсем смахивает, на лице усы и слегка прихрамывает, а в розыскной бумаге об этом не сказано. Что делать?