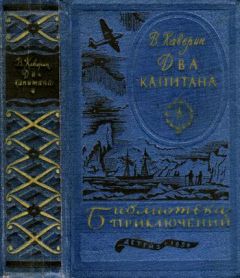— Ты уже сделал одну глупость, — сказал Кораблев. — Даже две. Во-первых, не заехал ко мне. А во-вторых, сказал Кате: «Я буду держать тебя в курсе»!
— Иван Павлыч, ведь я же ничего не знал! Вы мне просто писали: заезжай ко мне. и я не подозревал, что это так важно. Скажите мне, кого мы тут ждем? Кто этот человек и почему вы хотите, чтобы я его видел?
— Ну ладно, — сказал Кораблев. — Только помни уговор сидеть и не говорить ни слова. Это фон Вышимирский.
Вы знаете, что мы сидели в Гришиной уборной в Московском драматическом театре. Но в эту минуту мне показалось, что все это происходит не в уборной, а на сцене, потому что едва Иван Павлыч произнес эти слова, как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплет двери, вошел фон Вышимирский.
Я сразу понял, что это он, хотя до сих пор мне даже и в голову никогда не приходило, что этот человек существует на свете. Мне всегда казалось, что Николай Антоныч выдумал фон Вышимирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая-то фамилия, и вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого, длинного старика, сгорбленного, с желтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто Вышимирский, а никакой не «фон». На нем была форменная куртка с блестящими пуговицами — гардеробщик! — на голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи.
Кораблев поздоровался с ним, и он легко, даже снисходительно протянул ему руку.
— Вот, оказывается, кто меня ждет — товарищ Кораблев, — сказал он, — да еще не один, а с сыном. Сын? — спросил он быстро и быстро посмотрел на меня и на Кораблева и снова на меня и на Кораблева.
— Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он летчик и хочет познакомиться с вами.
— Летчик и хочет познакомиться, — неприятно улыбаясь, сказал Вышимирский. — Чем же летчика заинтересовала моя персона?
— Ваша персона интересует его в том отношении, — сказал Кораблев, — что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова. А вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие.
Кажется, это замечание не очень понравилось Вышимирскому. Он снова быстро взглянул на меня, и в его старых, водянистых глазах мелькнуло что-то — страх, подозрение? Не знаю.
Но тут же он приосанился и затрещал, затрещал. Поминутно он называл Ивана Павлыча «товарищ Кораблев» и хвастался невыносимо. Он сказал, что это была великая, историческая экспедиция и что он много работал, очень много, «чтобы все было великолепно». При этом он ни минуты не мог усидеть на месте — вставал, делал разные движения руками, хватал себя за левый ус и нервно тянул его вниз и так далее.
— Но это было очень давно, — наконец сказал он, как будто удивившись.
— Ну, не очень давно, — возразил Кораблев. — Незадолго до революции.
— Да, незадолго до революции. Я тогда не служил в артели инвалидов. Но это временное, эта служба, потому что у меня большие заслуги. Мы тогда много трудились. Это были большие труды.
Я хотел спросить, в чем, собственно говоря, заключались его труды, но Кораблев посмотрел на меня ровным, как бы ничего не выражавшим взглядом, и я послушно закрыл рот.
— Николай Иваныч, вы мне как-то рассказывали об этой экспедиции, — сказал он. — У вас, помнится, сохранились какие-то бумаги и письма. У меня к вам просьба: повторите ваш рассказ вот этому молодому человеку, которого вы можете называть просто Саня. Назовите день и час, когда к вам прийти, и оставьте ему адрес.
— Пожалуйста! Буду очень рад! Я вас прошу к себе, хотя заранее извиняюсь за квартиру. Прежде у меня была квартира в одиннадцать комнат, и я этого не скрываю, а, наоборот, пишу в анкете, потому что принес много пользы народу. За это я хлопотал персональную пенсию, и мне ее дадут, потому что у меня большие заслуги. Эта экспедиция — только одна капля в море! Я построил мост через Волгу.
И он снова затрещал, затрещал. Со своим острым седым хохлом на голове он был похож на старую, замученную птицу.
Потом лампочка в Гришиной уборной на мгновение погасла — кончился акт! — и этот призрак прошлого века исчез так же внезапно, как и появился.
Весь этот разговор продолжался минут пять, но мне показалось, что он продолжался очень долго, как это бывает во сне. Кораблев посмотрел на меня и засмеялся — должно быть, у меня был глупый вид.
— Иван Павлыч!
— Что, милый?
— Это он?
— Он.
— Может ли это быть?
— Может.
— Тот самый?
— Тот самый.
— Что он рассказывал вам? Он знает Николая Антоныча? Он у них бывает?
— Ну нет, — сказал Кораблев. — Вот именно — нет.
— Почему?
— Потому, что он ненавидит Николая Антоныча.
— За что?
— За разные штуки.
— Что же он рассказывал вам? Откуда взялась эта доверенность на имя фон Вышимирского, — помните, вы мне о ней говорили?
— А-а, вот в этом все и дело! — сказал Кораблев. — Доверенность! Он затрясся, когда я спросил у него об этой доверенности.
— Иван Павлыч, прошу вас, расскажите вы мне все это толком! Вы думаете, это было хорошо, что вы в последнюю минуту сказали, что придет Вышимирский? Я только растерялся и, наверно, показался ему идиотом.
— Напротив, ты ему очень понравился, — серьезно сказал Кораблев. — У него взрослая дочь, и на всех молодых людей он смотрит с одной точки зрения: годен в женихи или не годен? Ты безусловно годен: молод, недурен собой, летчик.
— Иван Павлыч, — сказал я с упреком, — я вас не узнаю, честное слово! Вы очень переменились, просто очень! Зная, как все это для меня важно, вы надо мной смеетесь.
— Ну ладно, Саня, не сердись, все расскажу, — сказал Кораблев. — А пока давай-ка отсюда удирать, а то как словит нас сейчас Гриша да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре…
Но удрать не удалось. Лампочка еще раз мигнула, и в уборную поспешно вошел Гриша. Он был с рыжими бакенбардами, с длинным белым носом и гораздо больше похож на рыжего из цирка, чем на доктора, но на рыжего со смелым, благородным выражением лица. Мы с Иваном Павлычем не узнали его, и, к сожалению, последние слова: «да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре», без сомнения, донеслись до пего. Но Гриша, очевидно, не нашел в этих словах ничего обидного и даже, наоборот, понял их как наше горячее желание немедленно пройти в зал и посмотреть пьесу и его самого в роли доктора.
— В чем дело, я вас сейчас же устрою! — сказал он.
По дороге — он вел нас какими-то внутренними артистическими ходами — я спросил, почему у него такой странный для доктора грим. Но он ответил важно: