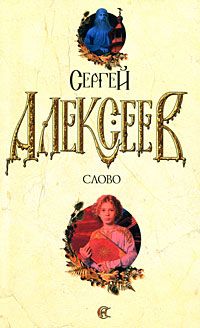Незнанов пожал плечами:
— Вообще-то полагается решкой…
— Ну вот, придет к тебе этот самый потомок, глянет — решка. А что еще и орел есть внизу, ему и невдомек. Ты же не дашь ему монету в руках вертеть?
— У нас не принято так…
— Во-во, не принято. Со словом то же самое. Поглядит он на бумажный труп, как на чужих похоронах, и уйдет с холодным сердцем, — Гудошников помолчал. — Сегодня еду в автобусе, и вдруг меня будто током ударило, затрясло. Глаза-то у наследника голубые! Приветливые глаза! Ну прямо ангельские. А ведь он и есть тот самый, для кого мы святыни собираем и храним!.. Оглянулся кругом — люди вроде добрые, веселые. Да нет, думаю, не может быть, чтобы все оглохли и ослепли. Иначе-то этот Лаврентьев, Петр, узник монастырский, прав окажется: собаки станут жрать крыс, крысы собак. Вечная гармония…
— Ты будто нездоров сегодня? — осторожно спросил Незнанов. — Говоришь как-то… Словно помирать собрался.
— Ко мне сначала тут сосед заглянул, потом Аронов, — объяснил Гудошников. — Оба о спасении души толковали. Теперь я о ней и думаю, как заведенный… Так вот, я попробовал эту гармонию нарушить. Перестрелял всех собак на острове, и крыс расплодилось — тьма! Всё подряд стали жрать… А в пятьдесят втором приезжаю я на остров — глазам своим не верю! У монастырских ворот — собаки! Я там пару — кобеля с сукой, оставил, не тронул, и вот так, думаю, неужели так расплодились? Нет, порода другая! Те были ездовые лайки, а эти овчарки чистых кровей. Но ласковые и побирушки такие же, руки лижут…
— Может, ты отдохнешь, Никита Евсеич? — участливо спросил Незнанов. — А я в другой раз зайду?
— Ты послушай, послушай, — прервал его Гудошников. — И живут они, собаки, как жили. Опять гармония… Думаю, точно, рехнулся я, и спросить-то не у кого, Петр Лаврентьев давно умер… Потом узнаю: оказывается, человек эту гармонию и возродил! Сразу, как я уехал с острова, в монастыре домзак организовали, буржуев исправлять. Ну, а овчарок привезли для охраны. Домзак-то потом убрали, а сторожевые собачки остались и нищенствовать стали, понимаешь?.. Умысла у человека не было, конечно, возрождение этой гармонии произошло случайно. Но меня так за душу взяло! Упаси бог людей от такой случайности! В глазах темнеет — страшная гармония! Животные — ладно, они подчиняются инстинктам. Но человек-то лишь тогда человек, если он душой помнит свою историю. Отруби эту память — и нет человека. Даты и события — это разве ж история? А мы ведь своим наследникам так ее и подаем — даты и события… Раньше книг мало читали, но устное творчество было! Вон из какой глубины предания и сказки идут. Крепкая, значит, память была, емкая. Хватало места где хранить историю. Я одного старика в скиту слушал — удивительно…
— Я, впрочем, по делу к тебе пришел, — робко вставил Незнанов, воспользовавшись паузой. — Да, вижу, не ко времени…
— Ничего, ты в самое время пришел, — прервал его Гудошников. — Про дела мы еще наговоримся, успеем… Ты подумай, если устного не осталось в народе — вся надежда на книги, на летописи. А то гляди: в космос дорогу проложили — и слава богу. Но это ведь так далеко от земли! Как бы нам от нее, матушки, совсем не оторваться.
— Да ты успокойся, не оторвемся. — Незнанов помялся: — Может, тебе врача вызвать? Сына-то дома нет…
— Зачем врача? — удивился Гудошников. — Я здоров. Сегодня такой день, что мне даже выпить хочется! Давай выпьем, а потом я тебе еще об одной мысли скажу… У Степана где-то спирт есть. Я сейчас…
— Погоди, — остановил его Незнанов. — Я же не пью, да мне уже пора уходить.
— Эх, жаль, — вздохнул Никита Евсеевич. — С тобой так разговаривать хорошо. Из тебя бы толковый поп вышел — исповеди принимать.
— В моем роду были священники, — улыбнулся Незнанов.
— Ты приходи ко мне почаще! — растрогался Гудошников. — Я же все больше один. Характер-то — переругался со всеми…
— Буду рад, — закивал Незнанов. — Очень рад…
— Ты с колокольцами своими что сделал? — вспомнил Гудошников. — Весной говорил, купить предлагали…
— А продал я, продал в музей, Оловянишников уговорил, — сказал Незнанов. — Весь набор до последней штуки…
— Зря. Это ты зря сделал. Лучше бы по завещанию консерватории оставил. Там бы колокольцы твои звенели…
— Я инструменты туда передам, договорились, что инструменты в консерваторию пойдут. — Незнанов сделал паузу. — Никита Евсеич, я тут своим друзьям писал про тебя… Они заинтересовались. Я список принес, — он торопливо извлек из кармана бумажку, протянул Гудошникову. — Предлагают кое-какой обмен. Погляди, может, что и подойдет, заинтересует.
— Что? — растерянно спросил Гудошников, принимая бумажку. — Что ты сказал?..
— Говорю, предложения принес, — пояснил Незнанов. — Товарищи надежные, состоятельные… Если ты сегодня не можешь, я завтра зайду. Ты отдохни…
Незнанов хотел забрать бумажку, но Гудошников не отдал и, схватив со стола очки, стал читать. Буквы роились перед глазами осиным роем. «Сборник книгописца Ефросина (полуустав, переплет — доски в коже, 622 листа, 94 статьи — в обмен на Лествицу), Духовное сочинение киев. митроп. Иосаия Копинского любого письма (…Историю разорения Трои — список 18 века, сверху — любой список 16–17 веков…). Возможны варианты…» — прочел Никита Евсеевич и снял очки. Рука потянулась к ящику стола, где когда-то лежал маузер. Теперь на его месте лежала справка, что комиссар кавполка Гудошников за героизм, проявленный при защите Петрограда, награжден личным оружием…
Он выдвинул другой ящик, взял ключи и, тяжело ступая, пошел к двери хранилища. Незнанов мял в руках шляпу, смотрел выжидательно и удивленно, клоня набок седую голову. Никита Евсеевич отомкнул и распахнул дверь.
— Заходи! — скомандовал он. — Заходи, бери, что хочешь!
— Как? — не понял Незнанов, пряча руки за спину. — То есть?..
— А хватай и тащи! — закричал Гудошников и толкнул Незнанова к двери хранилища. — Хватай сколько унесешь! Все бери! Вот четырнадцатый век, вот пятнадцатый, двадцатый, тридцатый! Без обмена, за так! Ну? Бери же!
Незнанов отскочил в сторону и замахал шляпой.
— Что ты? Что ты? Я же предложил… Мне написали, попросили… — Он развернулся, надел шляпу и пошел из дома.
Гудошников смял бумажку с предложением и кинул ему вслед…
Валерьянка не помогала. Сначала он отсчитывал капли, запивал их водой, потом хватил прямо из флакона, сморщился, выплюнул пахучую горечь и заковылял в комнату сына искать спирт. Обшарил шкафчик с лекарствами, тумбочку, перетряхнул вещи в комоде — пусто.
Спирт оказался в чемодане, задвинутом далеко под кровать. Нагибаясь, чтобы достать его, Гудошников доломал протез. Сев на кровать, Никита Евсеевич глотнул спирта из медицинской посудины. Гортань обожгло, согрело живот, но хмель не брал. Протез свободно болтался на шарнире, поблескивал его аккуратный неснимаемый ботинок, и, казалось, нога живая, отросла, и теперь хоть пляши. Протез заказывал Степан через своих знакомых и говорил, что хватит его надолго, а ходить на нем — настоящей ноги не надо. Но вот как, месяц не проносил — и выкидывай… Гудошников отхлебнул спирта еще раз и хотел положить посудину назад в чемодан, но среди вещей вдруг увидел книгу. Он взял ее, раскрыл…