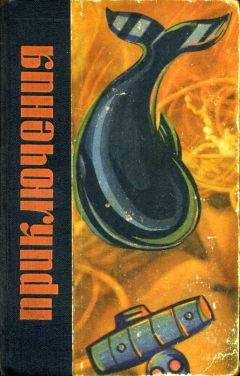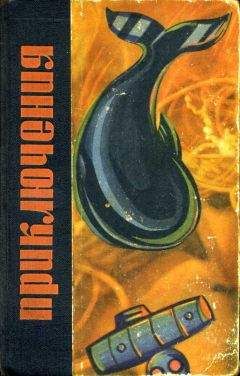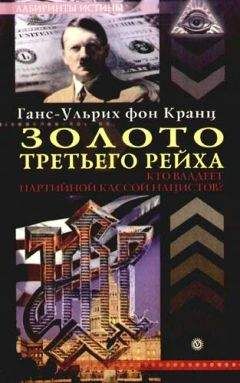— Дамка! — позвал он. — Дамка!
Белая кочка у черного круга бывшего костра шевельнулась. Снеговая попона, покрывавшая собаку, потрескалась и сползла. Дамка поднялась на лапы и отряхнулась.
— Дамка!
Собака замахала пушистым хвостом.
— Дамка! Иди сюда!
Собака потянулась и доверчиво двинулась к нему.
Он старался подзывать ее как можно ласковее, но она, видимо, ощутила в его голосе нечто подозрительное. Остановилась шагах в трех, склонила голову набок, присматриваясь.
— Иди, иди, Дамка... Иди сюда...
Она, виляя хвостом, сделала еще несколько неуверенных шагов. Тогда он от нетерпения, из боязни, будто собака может до конца прочитать его мысли, выбросил руку вперед, чтобы схватить ее.
Дамка увернулась и отскочила.
Он застонал от боли и некоторое время лежал неподвижно. Потом снова стал подзывать собаку, неожиданно остро почувствовав, что она — его спасение: сначала тепло, а потом пища. Если ему удастся подозвать ее и схватить, то он не замерзнет сегодня ночью — она согреет его. И завтра ночью согреет. А потом он проживет еще сутки, питаясь ее мясом. Затем сюда должны прийти люди. Ведь должны же хватиться его. Должны!
«Надо быть терпеливее, — подумал он. — Надо, чтобы она подошла совсем близко. Не надо пугать ее». И позвал как можно ласковее:
— Дамка! Дамка... Иди сюда... Иди сюда, собачка...
Она сидела метрах в двух и смотрела на него. Время от времени она облизывала языком нос; а может быть, ему так казалось, потому что и сумерки уже гасли, наступала ночь, и он видел только ее силуэт и пар от ее дыхания, пар, который напоминал о спасительном тепле.
Он подзывал ее ласковым голосом, а про себя ругал последними словами.
Дамка подошла, но он снова промахнулся, не смог схватить ее. И разозлился. Очень разозлился. Он кричал и ругался. Схватил снег, сжал в комок, швырнул в собаку. Попал. Дамка отскочила, пошла к черному кругу бывшего костра, села у котомки, в которой лежало мясо.
Он продолжал ругать собаку, потом опять начал приторно-ласково звать ее к себе.
Дамка не обращала на него внимания. Она стала принюхиваться к котомке, в которой лежало мясо. Дамка хотела есть.
Борис понял это только, когда собака расцарапала лапами развязанную горловину котомки и сунула туда морду. Он чуть не взвыл от ярости. Стараясь шевелить лишь руками, он принялся швырять в Дамку снежками. Но собака, очевидно, поняла, что человек, лежащий неподалеку и швыряющий в нее снегом, нисколько не опасен ей. Она выволокла кусок из котомки, легла на брюхо, зажав мясо в передних лапах и склоняя голову то вправо, то влево, с аппетитом ела. Изредка она отрывалась от еды и смотрела на Бориса, который уже замолчал, поняв бесполезность своей ругани.
Он пытался совсем успокоить себя, рассуждая, что ведь ему все равно не добраться до котомки. Мясо пропадало зря. Теперь же Дамка сыта. Она, может, станет добродушнее, неповоротливее, и ему удастся поймать ее.
«Только бы скорее она наедалась, — думал он. — Скорее бы! Скорее бы поймать. Какая же она пушистая, теплая!»
Дамка наелась и отошла от котомки. Борис снова стал подзывать ее. Теперь она приближалась к нему все осторожнее и осторожнее. Он ярился и опять принялся швырять в Дамку снежками. Собака приняла его ярость за игру, прыгала, лаяла, подскакивала совсем близко, как бы дразня, и отпрыгивала.
Если бы Дамка попалась в руки Бориса в один из таких веселых наскоков, он бы сразу задушил ее.
Он люто ненавидел собаку в эти минуты.
Изловчившись, он попал крепко свалянным снежком прямо в глаза Дамки.
Она завизжала, отбежала подальше, села и заскулила.
Борис ругал ее последними словами.
Дамка долго сидела и скулила. Потом поднялась и, поматывая головой, потрусила прочь от черного пятна костра, от Бориса.
«Побежала домой, к своим щенятам, к Демьяну Трофимовичу, — подумал лениво Борис. — Хоть бы записку ей за ошейник сунуть! Не подошла даже... А так кто же догадается, что со мной случилось. Дамке-то, видно, не впервой пропадать. Черт с ней! Все равно. Если к ночи развиднеет, ударит мороз. Все! Может, и не развиднеет, тогда, вероятно, продержусь. Но ноге конец. И все. Конец. Отмерзнет, Все равно...»
Борис уткнулся в жесткий, заледеневший рукав брезентового плаща. Затих. Даже мысли куда-то отступили. Оставили его одного. Совсем одного! И воспоминания не шли на ум.
Лишь сердце билось сильнее обычного. Словно оп добрался на высокую гору быстрым-быстрым шагом.
Оно не хотело сдаваться.
Но потом и оно успокоилось. Стало биться ровно, почти неслышно.
Тогда Борис поднял голову. По-прежнему крепко дул ветер, не сдерживаемый мертвым лесом, по-прежнему сыпал снег из низких туч, по-прежнему, даже ночью, казалось, что светится снег на земле, а небо темно, беспросветно.
«Хоть бы до утра продержаться!.. — подумал он. — Не спать. Как заставить себя не спать? Не поддаваться предательской дремоте?..»
Борис осторожно двинул ногой, зажатой в капкане валежин, застонал, но сон отскочил, словно Дамка, когда он протягивал к ней руку. А когда боль утихла, он подумал: «Как медведь в капкане... — И протер рукой глаза, залитые влагой растаявшего снега. — А если он придет? Или волки...»
Он огляделся. Никого.
«Но ведь звери могут прийти в любую минуту, — билось лихорадочно в голове. — В любую минуту... Вон там... Не глаза ли чьи-то горят? Нет... Карабин в пяти шагах... И костер. И еда... Все в пяти шагах. Кто мне говорил, что когда волки, медведи или лисы попадают в капкан, они отгрызают защемленную лапу... и уходят... Кто мне говорил это? Кто?»
Он пытался вспомнить и не смог, потому что мысли, все внимание его были заняты. Он до рези в глазах всматривался в сумрачную снежную ночь. Едва ему казалось, что бдительность его притупилась, едва утомление брало верх, как он чуть шевелил сломанной и зажатой меж валежинами ногой, и боль — острая, режущая — взбадривала его.
На его счастье, пурга не унималась, и поэтому мороз не был большим. У Бориса оставалась надежда, что сломанная нога, может быть, и не отмерзнет. Перелом, по-видимому, закрытый — крови в сапоге не чувствовалось. Ворочаясь, Борис думал, что Дамка все-таки дрянь — сначала увязалась за ним, а когда он попал в беду, бросила на произвол судьбы, и он теперь все-таки замерзнет, если не сегодня, то завтра. У него недостанет воли самому ампутировать себе стопу, придавленную валежиной, а спихнуть упавшую на ногу пихту не хватит сил.
«Ничего себе, собака — друг человека! — размышлял Борис. — Друг... Какой, к черту, друг!»
Незадолго до рассвета ветер стал стихать. Снег перестал. Но тучи не открывали чистого неба, и не холодало.