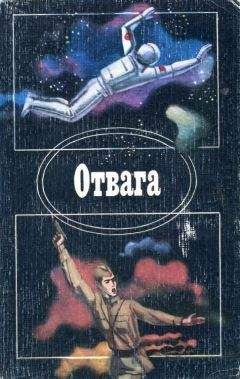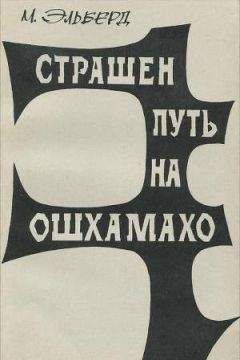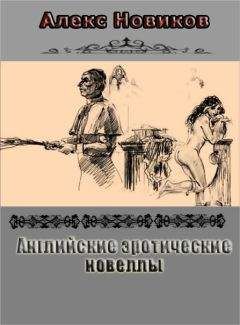День кончался, шел последний час плановых занятий по обслуживанию техники, когда я, сам того не ожидая, «принципиально схлестнулся» с капитаном Лялько. Командир батареи зашел ко мне во взвод, жестом приказал продолжать всем работу, отозвал меня в сторону, весело сказал:
— Извините, лейтенант, что отрываю от дела. Сам, как говорят, с усами, но формально обязан выяснить ваше мнение.
Настроение у него было отличное, но мое настроение этим «формально» он испортил сразу. Почему «формально»? Если это не затрагивает моих прерогатив, то можно вообще моим мнением не интересоваться, а если затрагивает, то интересоваться надо не формально.
— Итак, — продолжал Лялько, — как лучшего из сержантов отмечаем, конечно, Донцова? По традиции и, разумеется, по работе.
Это для поощрения — приказом командира дивизиона, а может, и выше. Надо было понимать так.
Я извинился и сказал, что мне непонятно, о какой традиции идет речь, но если товарищ капитан хочет знать мое мнение как мнение командира взвода, то к поощрению нужно представить старшего сержанта Кривожихина. А Донцов, добавил я, грубиян и матерщинник и никакого поощрения не достоин, даже только за то, что не уважает своих солдат.
Лялько буквально онемел. Видимо, ему никто и никогда не противоречил, а тут — извольте! Но, к чести своей, он только как-то странно сглотнул, словно внезапно поперхнулся.
— Так-с… Примем ваше заявление к сведению, товарищ лейтенант, — холодновато сказал он. — Только советую не забывать, что армия не институт благородных девиц, иногда не бывает времени выбирать изысканные выражения.
Конечно, можно было бы ответить: «Но армия и не кабак!» Однако я твердо решил держаться в рамках и сразить его «законным» приемом:
— Старший сержант Донцов не выполняет элементарных требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил СССР, в частности — статей сороковой и сорок четвертой, товарищ капитан.
— Он же всегда считался лучшим, его знают даже в округе!..
— Товарищ, капитан, — сказал я, — вы интересуетесь у меня как у командира взвода, кто из командиров расчетов во взводе был в период боевого дежурства лучшим. Мое мнение: старший сержант Кривожихин Василий Михайлович.
— Ну, хорошо… — Он как-то очень жестко посмотрел мне в глаза. — У вас одно мнение, у меня другое. Спорить не будем. Ваше мнение я приму к сведению. Но мне очень неприятно, что вы не избежали распространенной среди молодых офицеров ошибки — сразу сдали заводить любимчиков. Опасное дело, лейтенант: подведут! В самый критический момент подведут и еще будут надеяться на ваше снисхождение.
Командир батареи ушел явно не в духе, а я стоял один-одинешенек недалеко от установки первого расчета и (теперь-то можно признаться в этом) ругал себя за мальчишескую принципиальность. Я горжусь тем, что сумел в этой ситуации не отступить, а тогда я с горечью думал: ну вот — испортил отношения с командиром батареи, и все из-за какого-то Кривожихина, которому через год увольняться и которому, как я заметил, абсолютно наплевать на «бронзы многопудье» даже в окружном масштабе. Конечно, ему будет приятна благодарность командира дивизиона или командира полка, но я уверен, что не в ней видел он смысл своей жизни и службы. Главное для него — удовлетворение сделанным, счастье честной работы, честного труда — как, наверно, было и на заводе в Москве. Но он в конце концов уедет, а мне служить. Да еще под началом капитана Лялько. И наверное, не один годик.
А потом я все-таки сумел взять себя в руки, отогнал эти мелкие, не достойные ни офицера, ни коммуниста мысли и твердо сказал себе: «Вы правы, лейтенант Игнатьев! Неужели сердце не подсказывает вам, что вы правы?»
В тот же день к вечеру в штабе, в казармах и в столовой появилось одинаково написанное объявление о том, что такого-то числа в семнадцать ноль-ноль состоится закрытое партийное собрание. В моем распоряжении было еще трое суток. И надо сказать, что все эти трое суток я промучился сомнениями. Что они, мои сомнения, в данном случае выражали: трезвую осторожность или просто неуверенность в себе — я и до сих пор как следует не понял. По-видимому — все вместе, с незначительным эпизодическим перевесом одного над другим. Иногда я абсолютно не сомневался в том, что я полностью прав и обязан сказать то, что думаю, а иногда я казался себе выскочкой, карьеристом, который очень хочет обратить на себя внимание начальства и выглядеть оригинальным: действительно — программы, методика занятий и временные нормативы утверждены не командиром дивизиона и не командиром полка, а кое-кем повыше. А тут вдруг пожалуйста — появляюсь я, без году неделя командир взвода, «начинающий» лейтенант, и начинаю крушить давно заведенный и проверенный жизнью порядок. В эти дни я ох как хорошо понял, что значит находиться на распутье!
Накануне собрания я, к собственному удивлению, успокоился (как, кстати, и перед стрельбами) и твердо решил: выступлю! Никто меня за это не съест, а если кто-то что-то не так подумает, ничего не поделаешь. Я преследую не личные карьеристские цели, болею за наше общее дело — вот главное. А если я в чем-то ошибаюсь, коммунисты тут же, на собрании, меня поправят.
В президиум собрания попал и капитан Лялько. Мало того — его выбрали председателем. А с докладом выступил подполковник Мельников.
Не буду касаться всех подробностей доклада. Нас, стартовиков, командир дивизиона в общем похвалил, радиотехническую батарею тоже. В числе лучших был отмечен и старший сержант Николай Донцов, а не Кривожихин, как настаивал я. Капитан Лялько поступил по-своему и с моим мнением не согласился. Кое-кому от командира дивизиона и досталось — за неповоротливость, за нежелание принимать самостоятельные решения и брать на себя ответственность. Мельников напомнил о том, что в жизни дивизиона ожидаются важные события: прием осеннего пополнения и начало нового учебного года.
Окончательное решение выступить я принял спустя мгновение после того, как с трибуны прозвучала фамилия Донцова, хотя, честно скажу, говорить о нем не собирался. Когда объявили перерыв, я подошел к Лялько и попросил записать меня в прения. Командир батареи как-то странно взглянул на меня, словно я его здорово удивил, суховато сказал:
— Ну-ну… Записываю.
Передо мной после перерыва выступили четверо: капитан Батурин — о работе партийных групп в подразделениях и на станциях, Сережа Моложаев — о своих комсомольцах, один техник со станции разведки и целеуказания и… старший сержант Донцов.
Донцов говорил обо всем и ни о чем — ну, прямо как герой какого-то старого фельетона: о сложной международной обстановке, о происках мирового империализма и о положении на Ближнем Востоке; он напомнил всем нам о том, что порох надо держать сухим, приложить все силы к тому, чтобы в ходе дальнейшей службы и учебы устранить отмеченные на дежурстве недостатки. Он же со своей стороны дает обязательство к годовщине Советских Вооруженных Сил повышать, изучать, приложить максимум… то есть делать то, что входит в круг его прямых служебных обязанностей. Я слушал его и недоумевал: демократия демократией, но зачем ему позволили отнять у всех присутствующих десять минут времени? Может, и мое выступление кое для кого прозвучит так же высокопарно и пусто? Надо постараться и уложиться в пять. И без громких слови торжественных обещаний!