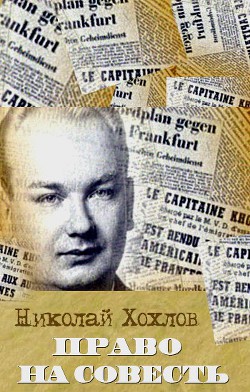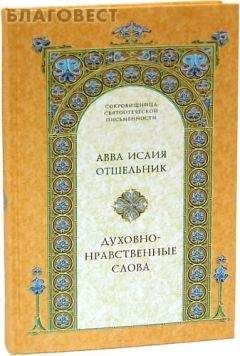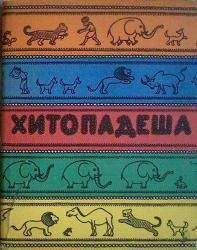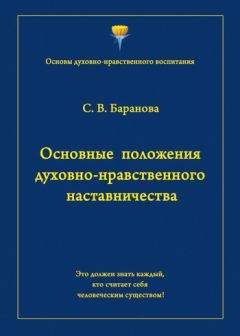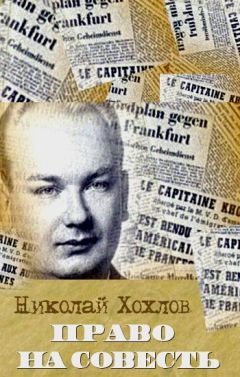В субботу, 10 апреля, американцы приехали к Л. рано утром прямо на квартиру и пригласили его для переговоров. Подробностей их визита я не знал, но днем меня навестил один из американцев. Лицо его сияло. Он поднял вверх большой и указательный пальцы правой руки, сложенные в кольцо. Я уже знал, что по американской системе жестов это означало: «все идет прекрасно». Как бы сомневаясь в моем знакомстве с тонкостями английского языка, американец добавил по-русски:
— Ник?! Все о-кей! Лучше не надо. Л. уже сидит у нас на квартире и очень хочет работать с нами.
«Ник»-ом американцы окрестили меня с тех пор, как Вашингтон принял решение, что я, по всей видимости, не являюсь двойным агентом. Я не возражал против этого сокращения. Я уже много раз думал, что если бы некоторые из моих новых знакомых не были разведчиками, у нас могла бы завязаться неплохая дружба. Но красноречивый жест американца не обрадовал меня. Какая-то странная и необъяснимая интуиция заставила меня спросить с тревогой:
— А его семья? Семья что-нибудь знает?
Американец засмеялся:
— Ну, что вы! Мы так тонко сделали, что никто ничего не заподозрит. А Л. уже на все согласен. Будем встречаться с Окунем.
И он ушел, очень довольный разворотом дела. Однако, неожиданно для самого меня, мой странный вопрос попал в точку. Утром в воскресенье приехал один из старших офицеров американской разведки и хмуро поздоровавшись, бросил на стул утренние газеты.
— Почитайте, Ник… Почитайте, как мы опозорились.
Пока я разворачивал газеты вошли и другие американцы. Молча расселись вокруг меня и стали чего-то ждать. Я нашел без труда то, что имел в виду старший офицер. На первых страницах газет был многозначительный заголовок:
«ЧТО НУЖНО АМЕРИКАНСКОЙ РАЗВЕДКЕ ОТ ИНЖЕНЕРА Л.?»
Краткие статьи в газетах были в основном похожи. В них рассказывалось следующее:
Рано утром в субботу к дому, где живет инженер Л. (следовала краткая справка об инженере), подъехал красный лимузин, хороню известный в Вене как машина принадлежащая американской разведке. Несколько человек в форме австрийской полиции поднялись к Л. на квартиру и пригласили его в районный полицейский участок для дачи некоторых показаний. Л. не стал возражать, оделся и вышел с полицейскими. Жена Л., наблюдавшая за этой сценой, почувствовала что-то неладное: обычные полицейские не приезжают в красных лимузинах. Кроме того, в самом поведении «представителей законности» были детали, выдающие их иностранное происхождение. У жены Л. возникло подозрение, что ее мужа похитили советские агенты, переодетые в полицейскую форму. Она немедленно позвонила в районный участок. Ей подтвердили, что от австрийской полиции никто приехать к Л. не мог. Была поднята тревога. Сметливые газетные репортеры довольно быстро выяснили, что Л. находится в руках американской разведки, а не советской. Инженер был отпущен домой во второй половине дня и отказался дать объяснения газетам.
Затем шли серии вопросов, разные — в зависимости от газеты. Но все они касались одной темы: что нужно американской разведке от Л., и не похожа ли вся эта история на попытку незаконного ареста австрийского гражданина? Некоторые голоса слева спрашивали с возмущением: до каких же пор Вена будет ареной интриг всяких разведок и почему заокеанские соседи считают себя вправе нарушать юридическую неприкосновенность австрийских граждан?
Я отложил газету. Все было ясно. Вариант с Окунем безнадежно провален. И, что самое опасное, роль Л. для Москвы попадает совсем не в тот свет, в который мы хотели. Я огляделся. В комнате царило молчание. На меня глядело несколько пар виноватых глаз. Мне вдруг показалось, что я попал в компанию каких-то взрослых детей, которые натворили что-то нелепое и сами об этом жалеют. Что же я мог им сказать… Начать ругаться или возмущаться? К чему? Они были расстроены и подавлены не меньше меня.
— Везите меня во Франкфурт, — сказал я. — Здесь мне больше нечего делать.
Через день я вылетел на американском военном самолете в Германию. Подполковник Окунь был вызван немедленно в Москву. На его место прилетел Мирковский. Л. забрал семью и уехал в западную зону Австрии. Но все же в самый последний момент судьба мне улыбнулась в неудавшемся деле Окуня. В то самое воскресенье, когда австрийские газеты писали о Л., один из агентов Девятого отдела в Вене перешел на Запад, к американским властям. Этот агент, назовем его «А», работал с советской разведкой еще со времен гражданской войны в Испании. Он служил в 4-ом Партизанском Управлении НКВД в те годы, когда я в немецкой форме бродил за линией фронта, хорошо знал генералов Эйтингона, Судоплатова и других офицеров нашей службы. Мы часто встречались с «А» в то время, и он даже был знаком с моей семьей. История дела Кубе и моя роль в ней были ему тоже детально известны. В 1945 году, в числе других агентов судоплатовской службы, он был послан в одну из стран «народной демократии» с тем же заданием, что было поручено и мне в Румынии. С тех пор, почти десять лет, мы не виделись и только слышали изредка друг о друге из рассказов общих знакомых. «А» был уже немолод, одинок, в Советском Союзе у него не осталось никого из родственников. Сущность светской системы и отношение к пей русского народа он понял, примерно, в то же время, что и я, и под влиянием тех же факторов. Не было только толчка, который заставил бы его сделать окончательный выбор. Этим толчком оказалась заметка о Л. в австрийских газетах. С Л. «А» встречался по работе в Австрии. Он подумал, что теперь, когда рухнут агентурные сети, связанные с этим австрийским инженером, ему, «А», придется вернуться в Москву. Его могли перевести в аппарат разведки и «закупорить» на территории Советского Союза. «А» установил связь с американской разведкой и в тот же день перешел на Запад. Он не хотел становиться двойным агентом и поэтому, так обставил обстоятельства своего перехода, что Москве было ясно, что сделал он это по собственной инициативе. Американцы привезли «А» ко мне на квартиру. Сюрприз для нас обоих был немалым. «А» никак не ожидал увидеть меня на Западе. Я был поражен совпадением и в то же время обрадован им. Москва теперь могла сделать один, напрашивающийся вывод: «А» с некоторого времени сотрудничал с Западом, он же раскрыл Л. и, поскольку допрос Л. попал в газету, решил уходить на Запад. От «А» через Л. нити провала тянулись к Францу, Феликсу и, значит, ко всей группе по операции «Рейн». А когда капитан Егоров попадал в руки западных властей и ему устраивалась очная ставка с Л», то открывалось имя «Хохлов» и все прошлое, связанное с Москвой, войной и Румынией. Поскольку у капитана Егорова был на руках паспорт на Хофбауера, раскрывалась и моя поездка в 1951 году по Европе. Кроме того, «А» был знаком с кухней нашей службы почти в той же степени, что и я. Другими словами, что бы теперь ни проникло в прессу или просто дошло бумерангом до Москвы, мое «алиби» перед Москвой не попадало под удар. Шансы на то, что моя семья будет спасена, увеличились.
Вернувшись во Франкфурт я нашел на почте письмо из Вены. Мне сообщалось, что группа моя в опасности и я должен немедленно уходить. Причем приказ требовал именно моего ухода, обрывая связь с Францем и Феликсом и бросая их на произвол судьбы. Очевидно, Москва считала, что показания Л. привели западную разведку сначала к обоим агентам, которые, вероятно, уже попали под наблюдение и уйти не смогут. Москва надеялась, что хоть я успею еще выскользнуть из кольца. По тону письма было видно, что лично мне Москва полностью верит. Я понял, что пришло время для «капитана Егорова». Для Москвы пока я исчезал и погружался в неизвестность до той поры, пока не была бы разработана подходящая версия об обстоятельствах моего появления на Западе. С этой версией нужно было спешить. Я попросил американцев созвать срочное совещание представителей НТС, английских и американских властей, чтобы решить, что делать дальше с капитаном Егоровым и его группой. Билл доложил начальству мою просьбу. 14-го апреля ко мне в охотничий домик действительно приехали представители НТС и в их числе Околович, связные от английской разведки и несколько американских офицеров. Однако, приехали они совсем по другому вопросу и завели разговор о совершенно неожиданных для меня вещах.