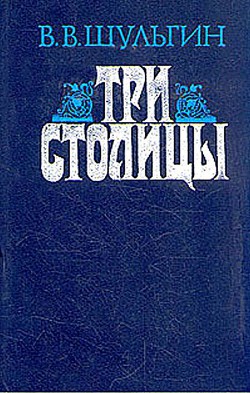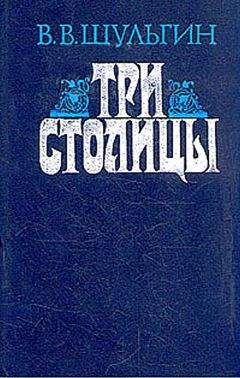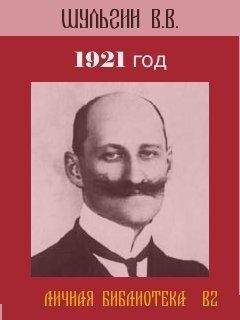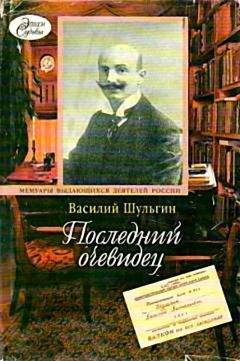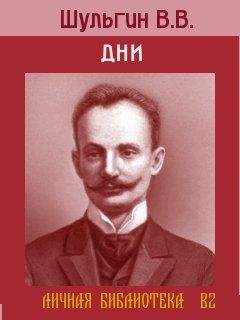— Совершенно верно. Итак, вы видите свой подвиг в том, что вы сохраняете себя для действий. Для действий, которые когда-то наступят. Но почему же, если вы так хорошо понимаете это для себя, то почему вы не прикладываете этой же мерки к остальному русскому народу?
— Как так? Скажите яснее.
— Эдуард Эмильевич. Вот вы — белые, или, скажем, мы — белые, боролись. Боролись, скажем, героически, до последних сил. Но проиграли. Ведь проиграли, Эдуард Эмильевич?
— Это как сказать. В борьбе оружием мы проиграли. В борьбе идей мы не проиграли. Во всяком случае, мы свою идею вынесли из боя, сохранили, и я думаю, что она постепенно завоевывает мир. По крайней мере, фашизм, который сейчас является противником коммунизма в мировом масштабе, несомненно, в некоторой своей части есть наша эманация.
— Совершенно верно. Но почему же вы полагаете, что ваши эманации, как вы их называете, действуют только на пространстве Западной Европы и не действуют в России, не действуют на вашей родине? Может быть, и у нас происходит то же самое?
— Но позвольте, если бы происходило то же самое, то от этого было бы какое-нибудь движение воды, ну хотя бы круги расходились бы.
Он улыбнулся очень тонко, так, как мне нравилось. И вдруг в эту минуту я сразу почувствовал, что стена, нас отделявшая, рухнула: он еще ничего не сказал, но я уже знал, что ко всему, что он будет говорить, к этому я уже совершенно готов, только что он, благодаря тому что он здесь, в России, прошел куда-то дальше, ну, в следующий класс, что ли.
— Вы говорите, было бы движение воды. Ах, Эдуард Эмильевич, плоха та подводная лодка, о движении которой можно было бы узнать по тому, что она дает след на поверхности. Грош ей цена, и неприятельского броненосца она не взорвет. Дело не в движении воды…
— Я понимаю, вы хотите сказать, что дело во внутренних процессах.
— Да. Дело во внутренних процессах. Вот вы боролись открыто, оружием. Проиграли. Я знаю вашу точку зрения, читал «1920 год». Вы полагаете, что белые не выиграли потому, что они на самом деле были не белые, а «серые». Так это или нет, но, во всяком случае, была какая-то причина, почему вы проиграли. А раз проиграли, то к этим способам борьбы до времени возвращаться было нельзя.
— А что же надо было?
— Что надо было? Вот скажите, как вы находите, вот это купе, вот этот вагон, который, не правда ли, несет довольно мягко?..
— Очень хорошо несет, разговаривать прекрасно…
— Да, разговаривать прекрасно. И не думаете ли вы, что это само по себе уже нечто. Вряд ли несколько лет тому назад это было бы возможно. Так вот я хочу сказать, это восстановление железных дорог, которое, я думаю, не ускользнуло от вашего внимания, это плюс или минус для России?
— Это один из проклятых вопросов, Антон Антоныч. Это все равно, как во время голода, ужасного голода 1921 года, двоилось эмигрантское чувство. С одной стороны, конечно, это был ужас, ибо умирали миллионы русских людей, а с другой стороны, это сулило будто какую-то надежду: думалось, авось этот ужасный голод сковырнет коммунистов.
— Но не сковырнул же, Эдуард Эмильевич?
— Не сковырнул. Но старая формула, которую я еще в 1905 году слышал от деятелей «освободительного движения» в отношении старой власти, «чем хуже, тем лучше» была у многих на устах в эмиграции.
— Ужасная формула, Эдуард Эмильевич.
— Ужасная. Я ненавидел ее в 1905 году, и, признаюсь, меня мороз по коже подирал, когда ее, нимало не смущаясь, повторяли в 1921 году. Но какая может быть другая?..
— Другая может быть: «Чем лучше — тем хуже…»
— Ну да, но ведь это ж безвыходность!
— Нет. Чем лучше — тем хуже… для советской власти!
— Это каким образом?
— А вот каким. Вы должны помнить, Эдуард Эмильевич, те времена, ибо вы полгода жили под большевиками в 1920 году, когда, можно сказать, русский народ приближался к самой низкой ступени своего материального существования. Кто тогда думал, скажите, пожалуйста, о чем-либо, кроме спасения жизни? Заботы о самом необходимом, то есть об элементарной безопасности от набегов Чека и о том, чтобы не умереть с голоду, поглощали всю психику. Не оставалось ровно ничего для борьбы. Если вы, белые, боролись, то только потому, что вам были обеспечены эти первичные необходимости.
— Это так. Но какой вы делаете вывод?
— Очень простой. Теория, будто бы революцию делают голодные — неправильна, ее нужно сдать в архив. Революцию делают сытые, если им два дня не дать есть… Таковая была февральская революция в Петрограде в 1917 году. Два дня не стало хлеба, и упала царская власть… Но если людям не давать два месяца есть, то они бунтовать не будут: они будут лежать при дорогах обессиленными скелетами и, протягивая руки, молить о хлебе. Или же есть друг друга будут. Я ведь рассказываю не теорию, а то, что было на самом деле, как вам известно.
— Ну да, но что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что, когда вы, белые, ушли и вооруженная борьба кончилась, то вся Россия представляла из себя огромное поле вот таких ползающих людей, полускелетов, думающих только о двух вещах: как бы их не сволокли в Чека и как бы раздобыться чем-нибудь покушать.
— И вывод?
— И вывод был тот, что если кто-нибудь задался целью из этой массы опять сделать нечто, что опять могло бы сопротивляться, то прежде всего и какой бы то ни было ценой надо было восстановить жизнь. Надо было, чтобы люди ели, чтобы у них были железные дороги, чтобы вновь пошли фабрики, чтобы вновь заторговали магазины, а чтобы все это могло случиться, надо было, чтобы мужик опять взялся за плуг и за борону. Это была задача неотложнейшая и в ту минуту единственная. Ибо без исполнения этой задачи все было бы ни к чему, так как продолжалось бы физическое и моральное уничтожение русского народа. Вы согласны со мной?
— Согласен. Ну, что дальше?
— А дальше то, что как только коммунисты, упершись лбом в стенку, увидели, что больше идти некуда, и повернули обратно, а это, как вам известно, выразилось в декретировании Лениным нэпа, то все, кто это поняли — сознательно, а огромные миллионы людей — бессознательно бросились в ыж имать из нэпа спасение своей страны!
— И этим вы сейчас заняты?
— И этим мы сейчас заняты. И верьте мне, Эдуард Эмильевич, нет задачи важнее. Ибо с возрождением страны возвращаются все возможности. Вот хотя бы контрабанда. Не будь нэпа, нельзя было бы торговать. Не будь торговли, незачем было бы возить контрабанду… А если бы мы не возили контрабанду, то я не имел бы сейчас удовольствия беседовать с вами в сем уютном купе… и… предложить вам пообедать на этой большой станции, где мы будем сидеть часа четыре!
* * *
Мы обедали. Большая станция клокотала человеческим потоком. Мои ощущения двоились между наблюдением за всеми теми лицами, которые попадали ко мне поближе, в том смысле, не узнаю ли я их и не узнают ли они меня, и наблюдениями, так сказать, общего характера. Наблюдения первого рода скоро меня утомили, а вернее, я почувствовал свою мимикричность. Никакого особого внимания я не возбуждал, совершенно затеривался в этой толпе, и на лбу, очевидно, у меня не было клейма — Берлин, Париж, Белград. Кроме того, со мной был Антон Антоныч, который в высшей степени внимательно обозревал окрестности и взгляд которого был гораздо более действительным, ибо он знал, кого надо бояться. Поэтому через короткое время я почти позабыл о своем собственном положении и предался наблюдениям над внешним миром.
Внешний мир этой станции как бы делился на две половины. Одна половина сидела по скамьям и стояла толпой и была больше и гуще, не имела чемоданов, а все больше узлы. Что касается одежды, то там все были кожухи и сермяги, а на голове «финские» шапки. Впрочем, много было и «шлемов».
Вторая половина расселась около столов, обедала или пила чай. Была она не такая густая, хотя многочисленная, все столы заняты, получше одетая и вещи более показные.
В этой половине, очевидно высыпавшей из «мягких вагонов», и мы примостились на углу стола. Обедали с аппетитом. Настоящий русский борщ с хорошим куском мяса. И потом второе какое-то, очень сытное. Потом пили чай, а мне захотелось шоколаду, по заграничной привычке. Я встал и подошел к стойке. Но подойдя, вдруг меня взяло сомнение: «А есть ли в этой стране шоколад?» И не выдам ли я таким вопросом сразу свое заграничное происхождение? Буфетчик мигнет куда-то глазом, подойдет «некто в чекистском», и он ему скажет: «Вот шоколад спрашивают». И кончено, меня цап-царап, и я ничего уже не расскажу своим закадычным друзьям о вкусном борще и телятине.