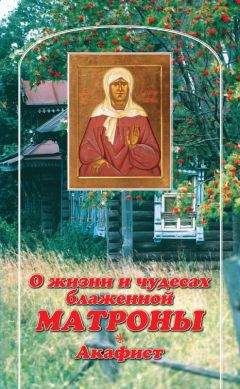К барьеру, отделявшему «суд» от остального пространства, подошел названный по фамилии очередной подсудимый Дубовик.
— Как звать? — спрашивает тройка.
— Иван Дубовик.
— Год рождения?
— 1915.
— За что арестован? Признаешь себя виновным?
Молчание.
— За что посадили, — спрашиваю?
— За… антисоветские частушки.
— Три года лагерей. Давай, проходи!
— Следующий! Как звать? Год рождения?
— Павел Красуля, рожден в 1918 году.
— За что сидишь? Признаешь себя виновным?
— Нет, не признаю. Арестован по доносу ваших же провокаторов.
— Всё понятно. 5 лет и три поражения. Давай следующий!
К барьеру подходит мужчина лет сорока пяти, обросший волосами, босой, но с интеллигентным, хотя и измученным лицом. Он спокойно остановился и молча стал рассматривать сидевших за столом судей. Его обвиняли в бродяжничестве по 35 статье. Ему грозило еще три года изоляции в концлагерях.
— Ваша фамилия?
— Вечный советский арестант с перманентным потенциальным желанием избавиться от сатанинской опеки ЧК-ГПУ-НКВД и стать свободным человеком и гражданином…
В очереди пробежал одобрительный шепот десятка подсудимых. В задних рядах кто-то засмеялся.
— А ну, там, давай прекратить разговоры и смех! — засуетились следователи и охрана.
— Повторите, гражданин, что вы сказали? — настороженно и тревожно спросил председатель тройки, вглядываясь в стоящую перед барьером человеческую фигуру.
— Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, — ответил подсудимый.
— Зачем вы его сюда привели? — вскричал председатель.
— Убрать его в камеру и переквалифицировать состав преступления по 58 ст., 10-му пункту. Вы кто такой?
— Если гнали Меня, будут гнать и вас. Очередь затихла и с захватывающим интересом следила за происходящим. Даже следователи стающим любопытством стали осматривать говорившего с таким бесстрашием.
— Убрать его! Давай, следующий!
* * *
…Сосну эту мы пилили целый день, уже к вечеру, когда сибирский мороз стал крепчать и серые тени поползли по лесным полянам и просекам, к нам подошел вольнонаемный десятник Адамчук и, кивая головою, насмешливо заметил:
— Ну, что, старики, сосенка ваша не сдается? Ладно, сегодня условно выпишу вам по 600 гр. хлеба, а завтра свое наверстаете: кубиков на 10 делового будет, да кубиков пять дров!
Десятник отошел к другим группам и звеньям, рассыпанным по тайге, а мы еще энергичнее взялись допиливать ствол. Дерево уже было подрезано со всех сторон на всю длину полутораметровой пилы, но всё еще упорно стояло и не падало. До конца рабочего дня оставалось не более получаса, и нам хотелось во что бы то ни стало свалить эту махину… Промучились мы еще минут двадцать и, наконец, раздался треск, ствол вздрогнул, качнулся в одну сторону, еще раз крякнул и грозно стал валиться на землю. Мы отошли в противоположную сторону и, затаив дыхание, глядели, как умирало и падало величественное дерево, подпиленное нашими руками. Всей своей многотонной массой сосна со стоном грохнулась о землю и замерла. Гром и шум глухим лесным эхом покатились по тайге. Соседи по работе посмотрели в нашу сторону и одобрительно выругались по адресу сосны. За завтрашние проценты выработки мы были спокойны и могли позволить себе небольшой отдых, тем более, что рабочее время подходило уже к концу.
Давыдов сидел на громадном пне и считал его годовые кольца. Сосне было 520 лет. Он достал из кармана грязную тряпку, вытер лицо и проговорил:
— Вот это так деревцо! 520 лет! Росло себе да росло. Что год, то и колечко. Над его вершиной промчалось пять веков нашей истории, начиная Ермаком и кончая нашими днями, и никто его не трогал… А вот пришли мы — советские арестанты — и ее свалили… во имя… социализма. А что такое социализм, коммунизм? Что это — невинные теории, или то страшное, от чего уже начала содрогаться наша земля?
Измученные непосильной работой мы молча сидели и слушали Давыдова. А он говорил:
Всё спуталось на земном шаре. Черное стали называть белым, а белое черным, тьму светом, а свет тьмой, зло — добром, а добро — злом. Четырех евангелистов заменили Марксом-Энгельсом-Лениным-Сталиным, храм — комсомольским клубом, или избой-читальней, бессмертную человеческую душу — бессмысленной физико-химической пляской атомов… Вместо свободного творческого труда мы имеем стахановщину, вместо вдохновения — социальный заказ, вместо благословенного Богом земледелия — колхозное рабство.
То, что еще вчера признавалось революционным или контрреволюционным, моральным или неморальным, сегодня эти понятия окончательно перепутались… Вчера Пугачев был великим бунтарем и революционером, а Суворов его душителем и палачом. А сегодня Пугачева объявляют чуть ли не врагом народа, а Суворова… великим полководцем… Величайшие злодеяния 1932–1933 г. — голод, уничтожение самой лучшей, самой трудолюбивой части нашего крестьянства, уничтожение последних остатков нашей интеллигенции, разрушение религии, миллионы расстрелянных и погибших в концлагерях — всё это оправдывается невинным словом — диалектика.
Для достижения всемирной большевистской революции все средства хороши!
И горе тому веку и живущим в нем, когда дела дьявольских диалектиков осуществятся!
Разве вы не читали в Апокалипсисе, в 13 главе, что «поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира»? А чтобы это могло случиться, они решили наши христианские понятия о добре и зле заменить вот этой самой хитрой диалектикой…
Нашу беседу прервал подошедший к нам снова Адамчук. Он записал нам 100 %, сказал пару теплых слов, пересыпав свою речь добродушными ругательствами, и повел лесорубов к месту сбора всей бригады.
Было уже по зимнему темно. На небе загорались первые сибирские звезды, 40-градусный мороз снова стал обжигать лица и руки. Под охраной 3 конвоиров и 2 овчарок бригада из 26 лесорубов медленно пошла по глубокому снегу к санной дороге. А там еще 6 километров тяжелого пути до холодных бараков, обнесенных высоким досчатым забором, колючей проволокой, наблюдательными постами на углах, с яркими прожекторами и сигнальными красными огнями… Затем полуголодный ужин и тяжелый сон каторжника. А на утро, в 5 часов, снова подъем и снова то же самое сначала… И так долгие беспросветные годы…
За что?
«Были ли вы арестованы при советской власти? Если нет, то почему?».
Говорят, что Чичерин, бывший в свое время Наркоминделом, страдал сахарной болезнью, впадал в «антисоветскую меланхолию» и под ее влиянием часто острил. Но это была не острота. Это — была действительность!
Если с 1917 по 1935 было репрессировано 27 миллионов человек, а к началу войны эта цифра возросла еще на пять миллионов, особенно за годы ежовщины, то острота Чичерина станет не только понятной, но и страшной. Чтобы это понять, нужно было быть советским гражданином, нужно было перенести всё то, что мы перенесли.
В заключении, оказывая многим своим соузникам нелегальную юридическую помощь, в части подачи жалоб, кассаций и заявлений, мне пришлось очень подробно ознакомиться с сотнями «дел», которые привели несчастных в тюрьмы и концлагеря.
С точки зрения любого, так называемого буржуазного государственного права, с точки зрения любого уголовного законодательства всех времен и народов и, наконец, здравого человеческого смысла, не изуродованного марксизмом, — все эти «составы преступлений» настолько абсурдны и смешны, что кажутся анекдотами и выдумкой. Здравому уму трудно поверить, чтобы человеку, который при чтении газеты «Известия», описывавшей подробности допроса обвиняемых по делу убийства Кирова, позволил себе улыбнуться, предъявили обвинение в «потенциальном сочувствии убийцам Кирова» и осудили на пять лет.
— Душевнобольная женщина, лет 55, находившаяся в колонии для умалишенных более 10 лет, была переведена в Сиблаг на пять лет за то, что плюнула на портрет Сталина. Она и в лагере продолжала бранить большевиков и за каждым ругательством швыряла в воздух камнями. При Ежове ее, кажется, расстреляли.