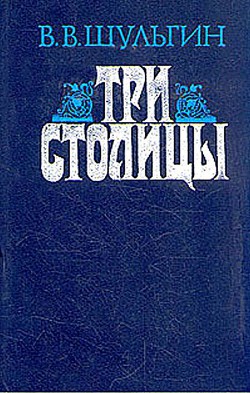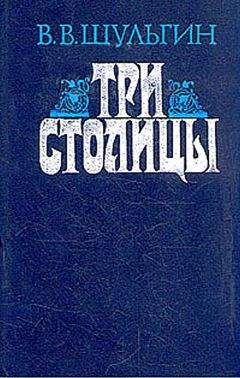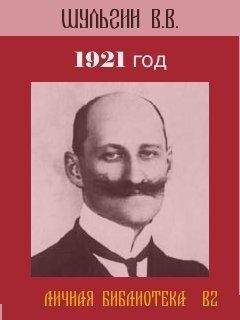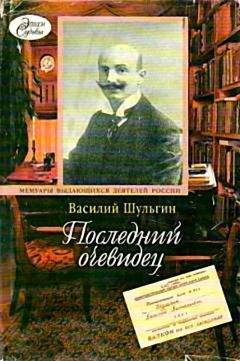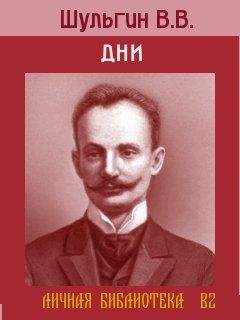Это была та самая улица, по которой он меня преследовал на извозчике. Я побежал в обратном направлении, т. е. в город. Потом взял в другую улицу, третью… Тут на углу нанимали извозчика. Единственного. Я отобрал его. Вскочил, поехали… Сидел, полуобернувшись назад. Нет, другого извозчика за мной не было. Но в светлых пятнах под фонарями мне казалось мгновениями, что я вижу бегущую черную фигуру. Или это была мнительность? Я пообещал извозчику пятерку. Он погнал. За пятерку, как известно, извозчик обгонит паровоз. Черная фигура, если она и была, исчезла… Я был чист! О, Господи…
Тут я увидел, что у меня рука красная. Что такое? Кровь? Да. Откуда?
Должно быть, поцарапался на проволоке. «Улика». Поскорее вытер.
Я сказал извозчику ехать на Назарьевскую. Это тихая, пустынная улица. Одна сторона ее — большой сад (Ботанический). Снег серебрился здесь под голубыми фонарями. Я отпустил извозчика.
Никого не было. Мирно поблескивали кристаллики искристого снега. Я чист, безусловно чист. Зловещего пятна нет и быть не может. Но нервы шалят. Все кажется — черное пятно появится. И жарко мне, жарко анафемски… Как после боя.
* * *
Да, пожалуй, это и был бой… Поединок.
* * *
Теперь можно идти на свидание. В 7 часов у меня свидание с Антоном Антонычем. Ужасно, если бы я не явился. Я потерял бы единственную ниточку, за которую держусь. Я остался бы совершенно один в. этой громадной стране, которая моя родина и где все же нет ни одного человека, к которому я мог бы обратиться… Да, ни одного. Ибо все те, кто меня знал, если есть кое-кто из них, как они могут мне помочь? Весьма мало. А опасность я им принесу великую. И потому я одинок. Я буду трагически одинок, если я потеряю свой единственный кончик.
Так я раздумывал, осторожно пробираясь по той самой Безаковской, где началось преследование. А вдруг они еще кого-нибудь оставили тут, на первом месте. Мало вероятия. А вдруг? Почем я знаю, сколько человек было за мною?
Я заметил двух, но разве это значит, что их именно два и было? А может быть, их было четверо? Может быть, старший приказал им тут дожидаться?
Эти мысли ползли, несмотря на их нелепость. Но не мог же я подвести того, кто меня ждал. Нет, это ни за что… Этих людей, которые мне помогают, — нет!..
И вдруг я почувствовал, что по отношению к этим людям, которых я так мало знал, по отношению к этим контрабандистам, у меня где-то в уголке сердца образовалась некоторая «вера и верность». Они доверились мне. Они не должны ошибиться.
И, подходя к памятнику Бобринского, где у остановки трамвая ждала меня знакомая фигура, я сделал знак, обозначавший, что ко мне нельзя подходить.
Я пошел мимо него и направился вниз по бульвару. Бульвар идет посредине улицы. Тут никого не было. Выследить было бы легко. Я шел и, изредка оборачиваясь, видел, как за мной осторожно, на большом расстоянии, следует знакомая, высокая фигура. Это было сладостное ощущение после зловещего черного пальто. Я чувствовал, что опытный и надежный человек у меня за спиной. Если там еще есть кто-нибудь, он его сейчас же определит. Иногда он приближался ближе, и тогда я видел, как в темноте блестят его внимательные стекла. Но нет, положительно никого нет. Одни только тополя следили наш рейс по протоптанной в снегу тропинке, да вот еще тюрьма. Мы шли мимо тюрьмы.
Так мы дошли до еврейского базара. Я остановился около чего-то, рассматривая. Он подошел и стал рядом, не оборачиваясь в мою сторону. Я спросил тихонько:
— За мною?
— Никого…
— Наверное?
— Наверное..
Тут стояло несколько извозчиков. Я захотел для верности принять еще и эту предосторожность.
Мы поехали.
Он внимательно смотрел назад. Сказал:
— Нет, никого. А что случилось?
Я сделал ему знак, показав на извозчика, и сказал: — приедем.
Мы приехали на какую-то улицу. Отпустили извозчика. Для верности пошли еще куда-то. Я впереди, он за мною. Искали совершенно пустынной улицы, чтобы окончательно убедиться. Все это было лишнее. Но как-то все казалось подозрительным. Автомобиль несся, ослепляя фарами.
Я спрятался за телефонный столб: а вдруг это сыщики рыскают. Вдруг вся милиция и все ГПУ поставлены на ноги и по всему городу ищут высокого старика, в коротком пальто, в сапогах и с седой бородой. А фонари так ярко освещают… Черта с два, за столбом не увидите!
Где-то в пустынной улице какой-то человек долго шел за нами. Мы разделились и тщательно проверяли, не черное ли пальто.
Все казалось подозрительным. Люди, извозчики, автомобили… Пуганая ворона… Ум ясно говорил, что раз он потерял мой след где-то на окраине, то только в силу самой дикой случайности он мог бы оказаться в совсем другой части города. Но страх подозревал, что именно эта случайность и произойдет.
Однако, в конце концов, это надоело, а очень необходимо было отдохнуть.
* * *
Мы зашли в какое-то заведение — это была не то столовая, не то пивная. Тут было невероятно светло и очень пусто. Кроме нас, один человек сидел в углу. Человек этот был молодой еврей в черной рубашке. Два таких же молодых еврея, бритые, с огромными шевелюрами и в черных рубашках были на эстраде. Да, в этой небольшой комнате была эстрада в углу. И на ней двое, скрипач и пианист. Такой же молодой еврей пришел к столику принять заказ. И еще один такой же виднелся за стойкой.
Куда мы, собственно, попали? Это попахивало комсомолом или просто еврейской кухмистерской. Словом, мы тут были, очевидно, не на месте. Если я и еврей, то какой-то совершенно demode. «Откуда взялся этот тип?» Мой спутник в своих стеклах, которые казались моноклем, отдавал чересчур вызывающим «старо-ново» режимным. Его вид говорил без слов: «Ничуть не скрываюсь. Все вы сволочи. А я нэпман, приспособившийся белогвардеец, и плевать мне на вас». Вот такая странная пара примостилась в углу, под оглушительным светом электричества; старозаветный почти еврей (а если не еврей, так кто же он такой?) и этот презрительный денди из старо-новых. Причем денди спросил пива, а потертый старик черного кофе. А должно было бы быть наоборот. И еще белого хлеба спросили, точно голодные. Я и был голоден.
Евреи заиграли. Бог мой! Никогда я бы не мог подумать, что из одной скрипки можно было выжать столь много звука. Скверного звука, нестерпимого звука, но все же. Пианист тоже колотил, что есть силы. У обоих была несомненно консерваторская техника и чисто большевистская напористость. Это оглушало не хуже бешеного электричества, отраженного стенами, крытыми белой бумагой. Скрипка визжала, выла, скрежетала. Никогда я не видывал ничего более еврейского.
Мы хотели поговорить, обсудить положение. Немыслимо. Ни единого слова нельзя было прокричать сквозь этот самум [26] отвратительно верных звуков. Они выделывали чудеса техники, за которые хотелось запустить в них бутылкой. Вместо этого мы послали им пару пива. Они поблагодарили и recomencerent de plus belle. Если бы они знали, что получили угощение от «погромщика» Шульгина…
Во всяком случае, здесь конспиративные разговоры исключались.
Отдохнув, мы ушли в другое место, провожаемые внимательными, чуть насмешливыми взглядами.
Я перед уходом попросил их сыграть один романс. Они сыграли. Но ясно было, что такая старина им смешна.
Они были снисходительно-пренебрежительны…
* * *
В другой кофейне было слишком тихо. Шептаться не хотелось, а если только повысить чуточку голос, это могло быть слышно людям, сидевшим за столами.
Однако мы пили чай с пирожными и все же поговорили. Я рассказал связно все, как было.
* * *
— Мое мнение, — сказал Антон Антоныч, — что за вами гонялся уголовный розыск: по грубости этой работы это совершенно не похоже на ГПУ. Геписты работают гораздо тоньше. И почти исключительно на провокации. Во всяком случае, вам никогда бы не дали заметить, что за вами гонятся. Им это просто запрещено. Как только агент обнаружен, его немедленно переводят в другое место. Для-ради его же безопасности. Ибо… ведь это его счастье, что вы были без оружия. Если бы был револьвер, в горячности там, где вы были совершенно одни… конечно, очень хорошо, что этого не было. Ибо убийство действительно поставило бы на ноги все и вся. Я думаю, что это уголовники…