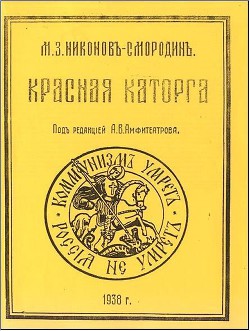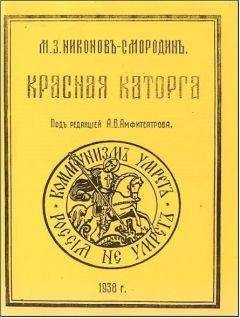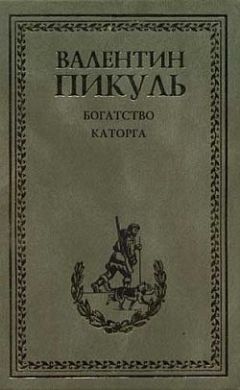— Даешь дальше, — орет старший.
Опять лямки натягиваются, скрипят полозья, и скоро от нас начинает идти пар, как от настоящих лошадей, а не просто «вридло».
Наконец, доезжаем до морского берега и переходим на лед залива. Глубокая губа минует возвышенности мелких островов, разбросанных по заливу. Везти стало полегче. На короткое время выглянуло солнце, и нестерпимая белизна снега стала утомлять зрение.
Мы въехали на остров, застроенный новыми домами, поднимаясь в горку по дороге, идущей от сарая, построенного на деревянной пристани. На берегу лежали опрокинутые на зиму лодки. У меня сжалось сердце. Мне сразу представилось, как в одной из этих лодок темной ночью я пробираюсь прочь от острова слез и крови… Эх, вот если бы сюда попасть!
Мы сложили кирпичи в указанном месте. Пока весь «обоз вридло» подтянулся, наконец, к острову, у нас, прибывших первыми, оказалось некоторое свободное время. Я воспользовался им для осмотра фермы и вместе с Петрашко направился к желтому забору с сеткой наверху, окаймлявшему питомник, занимавший большую часть острова. Тотчас за забором начинались помещения для пушных зверей. Они имели вид клеток, расположенных рядами, образующими аллеи. Размер каждой клетки, состоящей из деревянного каркаса, обтянутого проволочной сеткой, — восемь на двенадцать метров, высота — около трех метров. Внутри каждой клетки ящикообразное гнездо на ножках. В питомнике, как я узнал потом, разводились голубые песцы, черно-серебристые лисицы, соболя.
— Вот здесь бы поработать, — говорю я Петрашк.
— Все дело в блате, — ответил он. — Это временное чекистское сумасшествие, конечно, скоро пройдет. Воры и полуграмотный сброд нас на нашей работе в лагерном аппарате все равно не заменят. Постепенно опять вернемся «в семью трудяших».
К нам подошел высокий, худощавый человек с военной выправкой — по-видимому, один из служащих питомника.
— Вот обратитесь к Борису Михайловичу, — сказал Петрашко, пожимая руку пришедшему.
Полковник Борис Михайлович Михайловский узнав о моем влечении к кролиководству, сообщил:
— У нас с кролиководством обстоит довольно скверно. Климат или еще что-нибудь тому виною, но молодняк не живет, хотя мы его в отапливаемых помещениях держим.
— Попробуйте взять меня. Я думаю это дело у меня пошло бы.
— В самом деле, вы бы поговорили с директором пушхоза Туомайненом.
— Дело пожалуй не выполнимое, — сказал я с усмешкой, глядя на Михайловского.
Совет «поговорить» с одним из лагерных олимпийцев, мне «вридло», не имеющему права распоряжаться собой, зависящему всецело от «погоньщика», звучал насмешкой. Михайловский это понял и сказал:
— Попробуйте, подайте заявление директору Туомайнену. Жаль, что вы в своей анкете не показали себя специалистом по кролиководству.
Конечно, если бы я знал соловецкие порядки раньше, так я бы не только кролиководом и алхимиком бы записался на всякий случай.
9. ПАСХА
Весною стало особенно тяжело возить грузы. Наши маршруты стали даже удлиняться, ибо прибавился день. Мы возили грузы и в Филимоново и в Савватьево, в пушхоз, на ближния торфоразработки.
Снег Стал рыхлым и во многих местах напитался водой, работа еще более стала тяжелой. Я уже привык к черным кругам и звездам перед глазами и тянул свою лямку равнодушно, как лошадь. Мускулы почти все время напряжены, в теле постоянная тяжесть, в голове ни единой мысли. И это особенно тяжело: не задумаешься, не отвлечешься от настоящего. И оттого время ползет медленно. Кажется — чем больше надо проявлять усилий, тем медленнее оно идет. В роту я возвращался усталый и разбитый. Трудно представить себе более приятное ощущение, чем отдых после очередного рейса на топчане. Каждый валится на свою постель во всем как был и остается неподвижным.
Иногда ко мне в роту заходили Матушкин или Веткин и проводили со мною часок — другой. Они приносили с собою лагерные новости и для меня были единственным связующим с внешним миром звеном.
А между тем, незаметно подходила пасха.
Мои соседи — священники работали в Кремле и также сильно уставали. Иногда мы, лежа на нарах, шепотом разговаривали друг с другом, делились своим горем и надеждами на избавление.
— Будет ли в этом году пасхальное Богослужение в кладбищенской церкви? — осведомился как-то я.
— По-видимому, будет, — ответил отец Иван. — Во всяком случае владыка Илларион уже хлопочет перед лагерным начальством о разрешении присутствовать на этом Богослужении заключенным иерархам. Питают надежду попасть в церковь и некоторые заключенные.
— Только нам на разрешение рассчитывать нечего, — заметил епископ, — у нас будет рабочий день.
Ко мне зашел, наконец, разыскавший меня после падения на дно Сергей Васильевич Жуков. Мы разговаривали о пушхозе. Жуков сообщил мне подробности возникновения пушхоза. Там работал научный сотрудник СОК'а, сам же глава пушхоза — директор Туомайнен бывает в СОК'Е и Жуков его хорошо знает.
— Не можете ли вы передать ему мое заявление. Питаю надежду устроиться там по кролиководству.
— Конечно, передам. Вот статья у вас тяжеловатая. Пожалуй, не отпустят на такое блатное место, как пушхоз.
Все же я написал заявление и Жуков обещал передать его Туомайнену на днях, при первой с ним встрече.
— А вы не собираетесь в пасхальную ночь присутствовать на Богослужении у монахов-инструкторов в кладбищенской церкви? — спросил я, прощаясь с Сергеем Васильевичем.
Жуков вздохнул и потупился.
— Риск, знаете, большой. Можно, вот как вы, на дне очутиться. А выбираться отсюда — надо большую сноровку иметь.
В пасхальную ночь мы лежали по обыкновению усталые и разбитые. В кладбищенской церкви святого Онуфрия тринадцать епископов во главе с местоблюстителем патриаршего Престола Петром Крутицким служили пасхальную утреню. Полтора десятка монахов и несколько счастливцев из заключенных присутствовали на этом последнем торжественном Богослужении на Соловках. В следующем году доступ в церковь кому-либо из заключенных был строго воспрещен, а еще через год была закрыта последняя кладбищенская церковь и вывезен с острова последний монах.
Мои соседи — священники, за молитву во время утрени в боковой келье, где жил ротный писарь офицер, на другой день были схвачены и посажены в карцер (в одинадцатую роту). Вскоре после того был арестован и третий мой сосед — католический епископ и вместе с группой православных и католических иерархов (тридцать человек), был изолирован на острове Анзере. Весна 1929 года ознаменовалась началом гонения на духовенство, попавшее в лагерь. Духовенство вступало на тяжкий путь невиданных унижений и гибели от непосильного труда и голода.
Весною, по стаянии снега из двенадцатой роты начали рассылать людей на работы вне Кремля. Нужно было освобождать помещения для новых этапов. Первыми были «изъяты из обращения» запретники. Как-то днем стали вызывать по списку десятка два заключенных.
— Куда это вы? — спрашиваю.
— В запрет. Весна наступает и нашему брату хода за Кремль нет.
10. МАКСИМ ГОРЬКИЙ
Однажды ночью нашу большую партию «вридло» подняли, заставили собрать вещи и повели куда-то в сумрак.
Мы долго шли по грязной и скользкой дороге, по болотам и по лесу, пока не вышли на поляну. Стало уже светать. В серых зданиях, выступивших из полусумрака, я узнал кирпичный завод. Нас привели в новый дощатый барак и положили на полу. Топчаны для нас еще не были сделаны. От лошадиной службы мы были, так сказать, отпущены в запас до будущих снегов. А пока нам предстояла одна из тяжелых работ, то «плинфоделие египетское», о котором так выразительно повествует библейская книга «Исход»:
— Сделали жизнь их горькой от тяжелой работы над глиной и кирпичами, к которой понуждали их с жестокостью.
Я был все же рад исходу из мрачного Кремля, рад весенним солнечным лучам и полярной весне.
Весна на Соловках наступает внезапно. Весенний день здесь круглые сутки и рост растений в течение суток не приостанавливается. Оттого лиственные деревья и кустарники распускаются как по мановению волшебного жезла. Заросли карликовой березы на фоне желтых моховых подушек нежно зеленеют свежими, только что развернувшимися листьями. Впрочем, все это мы видим только по дороге из барака на завод. Нам не до вешних чудес природы. Вот наши сутки.