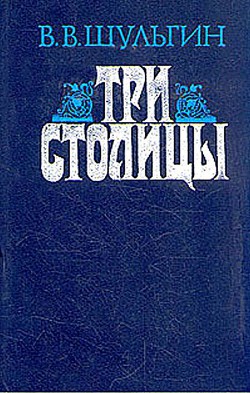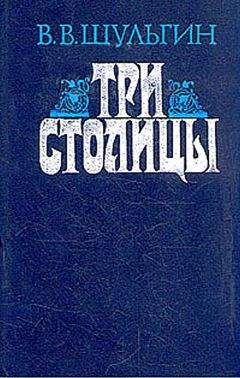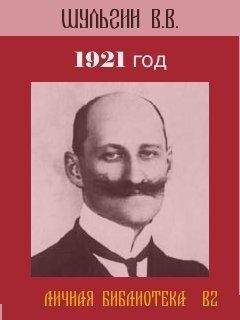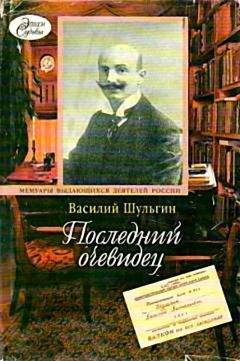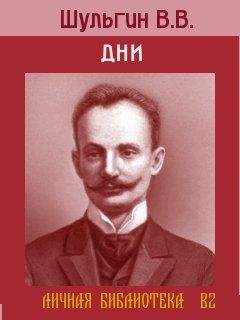И спал я так долго. Слышал, как пошли трамваи со светом дня, — заснул. Слышал возню в коридоре, это Милочка и номерной, слышал раскатистый московский говор хозяйки, которая бранила своего пентюха-сына. И засыпал опять. Куда спешить, ежели я должон болеть. И так сладко спалось.
Но всему бывает конец. Часам к одиннадцати я поднял белесоватую штору. Серый день был на серенькой улице. Шли серо одетые люди, меся ногами серый снег, ехали куда-то серые извозчики, каких теперь не увидишь нигде больше в мире: вымирающие остатки индивидуально-лошадиной эпохи человечества. Шли посеревшие трамваи: представители коллективного быта. Все хорошо, и все плохо. Арабский скакун прекрасен, извозчик сер, как мгла. Слипингкар имеет свою поэзию, трамвай нестерпим…
А вот самоварчик неизменно приятен.
Я позвонил.
Рыжеватая Милочка открыла дверь:
— Вы звонили?
— Я. Нельзя ли самоварчик?
— Можно. Чай ваш?
— Мой. Да вот еще. Я, знаете, нехорошо себя чувствую…
— Простудились?
— Нет. Упал я вчера, скользко…
— Ах, ужасно… И не посыпают, безобразие такое!..
— Вот руку поранил.
Я показал на руку, которую порвал на проволоке.
Она сделала сочувствующую мордочку.
— Как же это так?
— Когда падал, за забор схватился. А там гвоздь был.
— Вот как неприятно. И все-таки упали?
— И все-таки упал. Спину расшиб. А еще такая погода. У меня всегда от такой погоды. Хочу полежать. Никуда не пойду. А нельзя ли кого-нибудь послать за хлебом?
— Послать? Можно. Номерного. Я сейчас вам…
Она исчезла, пришел номерной. Вид этого человека напомнил лучшие времена русской литературы, когда все такие вещи, как номерные и половые, тщательно описывались. Отсылаю интересующихся к классикам.
— Вам купить чего требуется?
— Да Вот купите хлеба белого и колбасы московской и чайной. Еще сахара фунт и марок почтовых две
* * *
Если я это пишу, то для того, чтобы показать, что быт плохоньких гостиниц остался приблизительно такой, каким он был раньше. Впрочем, я неправильно выразился — остался. Не остался, а восстановился. Ведь в эпоху военного коммунизма гостиниц не было. Гостиничные дома были заняты коммунистической сволочью, которая первым делом испортила уборные, затем побила зеркала, третьим актом ободрала обивку мебели и в результате водворила общий стиль «публичного дома для горилл», где нестерпимо пахло духами девок и отхожим местом. Эта эпоха прошла. Стали стараться вернуться к человеческому образу и подобию. Стали «восстанавливаться».
Что же они могли восстановить? Какой образец носился перед духовными очами русского народа? Да только один: та жизнь, которой он жил до Эпохи Всеобщего Разрушения. Другого быта он не знал. Поэтому, естественно, как только дали ему возможность «немножечко-столечко» прийти в себя, он восстановил Милочек, номерных, самоварчики и чайную колбасу.
Все это, за исключением Милочки, конечно, он принес мне на стол, вместе со сдачей с рубля. Получил двугривенный на чай и был очень доволен.
— А марок, бар…
Он поперхнулся. Слово «барин» чуть не выскочило изо рта, вовремя застряв dans son gosier [28]. Я помог ему:
— Марок не достали?
Он оправился:
— Не достал. Тут на углу бывают, да вот вышли. Колбасы взял полфунта чайной, полфунта московской.
* * *
Когда он вышел, а я остался наедине с самоварчиком, плохо вычищенным, но сладко шипящим, я задал ему, самоварчику, вопрос:
— Что они обо мне думают? Милочка, хозяйка, сын-пентюх и этот, который едва не подавился «барином»?
Самоварчик немедленно отшипел:
— Они думают, что ты есть то, что в твоем паспорте написано, — то есть ты служишь в советском учреждении. Но они очень хорошо почувствовали, что ты «из старых», «из бывших», «из прежних», и за это к тебе нежность чувствуют. Очень уж нынешние очертели.
Но я сказал:
— Да ведь Милочка-то молоденькая. Ей может быть десять — одиннадцать лет было, когда пришла революция Она прежних-то не помнит и не знает.
Самовар отшипел:
— Помнит, знает… В театре видела, в опере, в киношке. Книжку какую прочла старую. Родители рассказывали. Да и так сама по себе: душа чувствует. Посмотри на нее: она как есть «низовая» — сочная, крепкая, здоровая, но разве она этим довольствуется? Разве ты не чувствуешь по всем ее ужимкам и повадкам, что она все отдаст тому, кто ее за «настоящую барышню» посчитает? Вверх тянется: самолюбие, тщеславие или что иное получше. Или ты не знаешь, как американки за свои миллиарды французских титулованных покупают? Так вот и «Милочка» тоже. Если у нее были деньги, она себе бы «бывшего» купила, ибо в ее глазах бывшие вроде как титулованные.
* * *
Так говорил самоварчик.
А он гражданин наблюдательный…
* * *
В мыслях этого рода время незаметно подбежало к часу. Я стал у окна, однако все же, на всякий случай, прячась за стенку. Человек с бородой, да се voit издали. Улица хорошо была видна мне. Шли разные люди, ехали извозчики, трамваи порой закрывали мне место, где он должен был пройти. Прошло пять минут. Я знал, что он точен, это было испытано. Это одно из завоеваний контрреволюции. В России до революции были точны только одни военные, да и то, пока они себя чувствовали на службе. Вся «гражданская» публика была распущенна до крайности. Это особенно сказывалось во всяких заседаниях, которые никогда не начинались вовремя. Когда разразилась революция, распущенность увеличилась в такой мере, что прежний быт (распущенный до крайности) стал казаться недосягаемым идеалом. Прежние заседания начинались с опозданием на полчаса, собрания времен Керенского опаздывали на час и на два. Большевики подтянули жизнь, — зверскими мерами, по своему обыкновению. Жалкий вид представляли собою распущенные буржуи, которые спешили на советскую службу под ударами коммунистического хлыста. Но в общем в этом смысле большевики сделали то, что было необходимо: надо было дисциплинировать людей, потерявших счет времени. Но, как многое, что делали и делают большевики, они сделали это на свою голову. Всякое положительное качество, которое они прививают, обратится против них. В сущности им выгодно было бы только одно: развращать все население во всех направлениях. А самим, избранному меньшинству, или «избранному народу», сохранять нравственность дисциплины. Тогда этот дисциплинированный кулак удержит власть над распущенной, развращенной и потому бессильной массой.
(…)
Но прошло четверть часа, quart d’heure de grase [29], а его не было… Начиналась неточность. Но так как я не мог поверить его неточности, я начал беспокоиться.
Этот транс под знаком крещендо продолжался три четверти часа. За эти сорок пять минут чего только не передумалось.
Его выследили, открыли, схватили… Как, почему, где? Тысяча вопросов, сорок две тысячи ответов.
А что это за барышня там на улице, направо? Я ее давно вижу, она все стоит на одном месте. Не наблюдение ли это за моей гостиницей? А этот солдат в шлеме? Он три раза прошел, туда, обратно, опять туда. Это, может быть, второй из их банды. А этот жидочек? Этот совершенно подозрителен. Он несколько раз взглянул на мои окна.
В два часа я готов был верить, что все пропало. Я застыл у окна, не чувствуя усталости.
Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,
Поймет, как я страдал и как я стражду..
Строфы Чайковского промелькнули и заставили улыбнуться. В это время я увидел «его».
Он шел с обратной стороны. Вот где была разгадка. Я, очевидно, пропустил его, когда он шел туда в час дня. А теперь он возвращался. Он чуть заметно на одно мгновенье сверкнул пенсне-моноклем на мое окно. Руки были плотно в карманах. Значит, все было благополучно. На радостях мне захотелось ему просигнализировать, что у меня все хорошо. Но как? А вот как.