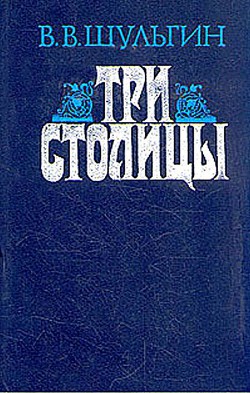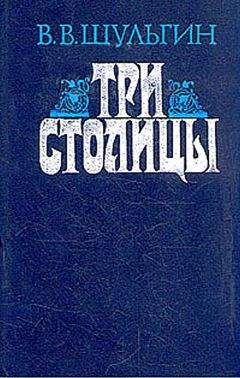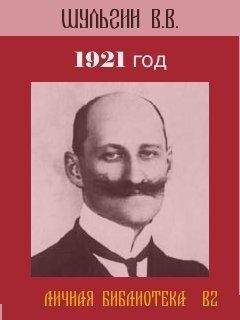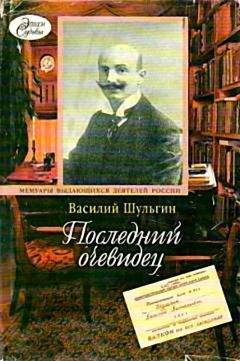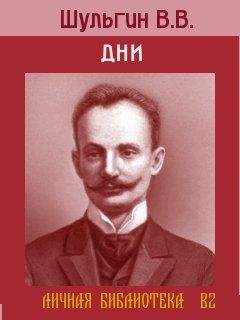Когда все было кончено, парикмахер сказал:
— Как изменяет! Когда вы ко мне пришли сегодня утром, и теперь… Кто бы мог сказать, что это один человек?!
В его голосе слышалось неподдельное изумление. А для меня в этом апострофе было одновременно и утешение и сожаление. Утешение в том смысле, что черное пальто теперь меня ни за что не узнает, сожаление, что мне пришлось расстаться с великолепным гримом.
* * *
Расстроенный парикмахер отказался взять с меня деньги. Я взял чемоданчики и, провожаемый взглядом часовщика, вышел на улицу.
Через несколько мгновений я почувствовал, что моя наружность еще более выиграла в смысле мимикричности. В витринах магазинов я видел явственного партийца. Бритого, в модной фуражке, в высоких сапогах. Оставалось только сделать лицо наглое и глаза импетуозные.
По-видимому, мне это удалось, потому что прохожие явственно уступали мне дорогу. А я шел на них, как будто бы это были не они, а воздух. Считать людей за пустое место, как известно, привилегия власти…
* * *
Я отправился в адресный стол. Хотя я должен был через час уехать из Киева, но я хотел для верности узнать адрес Москвича. Неизвестно было, как в конце концов повернутся обстоятельства.
Кроме того, в адресном столе мы должны были встретиться с Антоном Антонычем. Так было условлено — на пятый день моего сидения, в одиннадцать часов утра.
Адресный стол был такой, как раньше. Может быть, за столами, выдающими справки, сидели не те личности, но за столом, получающим справки, была приблизительно та же публика. То есть неопределенно-бессмысленного, беспомощного вида, какими бывают люди во всяких справочных бюро.
Я подошел к какой-то загородочке, где, очевидно, выдавали бумажечки, на которых надо было написать, кого ищешь. Висело какое-то объявление, из которого я отнюдь не понял, что мне, собственно, надо спросить. Чи желтое, чи зеленое? Я сказал наугад, и мне дали розовую бумажку.
Усевшись за большой стол, я стал выводить как можно явственнее и стараясь не влепить смертельного твердого знака, который сразу бы обозначил, что я за птица.
В это время как бы некий свет озарил комнату, и я увидел с порога устремленный на меня «монокль». Это был Антон Антоныч.
Он узнал меня, несмотря на все мое травестирование [31]. Я видел это по чуть дрогнувшим губам. Но он не подошел ко мне, пошел к загородке, явственным и недовольным голосом спросил бумажку, сделал какое-то замечание чиновнику и затем, усевшись рядом со мной, стал выводить какую-то фамилию. Только для верности заглянул боком в мою розовенькую бумажку. Прочтя, он, очевидно, окончательно решил, что не ошибся и что этот бритый, неприятный господин явно советского вида и есть тот самый вышедший из моды старичок, которого он знал пять дней тому назад.
Я подошел к загородке и подал молодой даме сильно акцентного вида свою розовенькую бумажонку. Она прочла громко: Александр Григорьевич Москвич.
Мне казалось, что ее еврейское «р» носит все признаки злорадства и звучит приблизительно так: а, попался, погромщик! Но она больше ничего не прибавила и исчезла во внутренних апартаментах.
Я вернулся и сел на место. Пока она искала Москвича, я думал о двух вещах: во-первых, я вспоминал, как в 20-м году большевистский комиссар хотел получить справку из адресного стола по телефону. Это было ночью. Барышня ему ответила, что это совершенно невозможно, ибо электричество потухло и она себе разбила голову о шкаф. Теперь не то. Этот фарс, политый кровью, прошел. И если кровь продолжает литься, то уже размеренно-бюрократической струйкой.
А кроме того, я думал, что сейчас она звонит по телефону в ГПУ и говорит:
— Какой-то тип спрашивает Москвича.
И слышит ответ:
— Задержите его как можно дольше!
И она действительно задерживала. Уже Антон Антонович получил свою справку и ушел, сделав мне знак одной половиной лица, что он будет ждать меня на лестнице. И нескольким другим дали справки, а мне все еще ничего не было.
Наконец она появилась:
— Москвич выбыл неизвестно куда…
* * *
Если Москвич выбыл, то последний смысл моего пребывания в Киеве исчезал. Надо было ехать.
— Поздравляю вас, — сказал мне на лестнице Антон Антоныч, — великолепно… Узнать невозможно. Теперь идите вперед не оборачиваясь, я иду за вами.
Так мы прошли несколько улиц. Наконец он нагнал меня.
— Все в порядке. За вами нет никого. А что касается Москвича, то я могу вам сказать больше, чем адресный стол.
Он сказал мне несколько слов, о которых помолчу. И прибавил:
— Теперь вот что. Едем. Побродите еще немного и приходите на почту, что против вокзала. Я принесу вам туда билет, чтобы вам не стоять около кассы.
Так и сделали.
Я подождал его на почте минут пятнадцать, которые употребил на то, чтобы писать мифическую открытку мифическим лицам. А почта была такая же, как раньше. Кстати, я купил марок и определил, что и на почте и в адресном столе, как, впрочем, и на вокзале, как, впрочем, и во всех столовых, магазинах и вообще, куда бы я ни обращался, все неизменно говорили по-русски, а не по-украински. В первые дни своего пребывания я неизвестно почему однажды вообразил, что хоть с солдатами надо говорить по-«украински». Шел я мимо тюрьм и как-то попал в такое место, где мне стало ясно, что идти сюда нельзя. То есть нельзя, если ты не арестован, а я по счастью был на свободе.
А тут как раз часовой. Я решил, что нужно брать инициативу в руки, пошел прямо на него и спросил:
— Прохаю, як тут пройти?..
На что он ответил приблизительно следующее:
— Какого черта вы тут шляетесь! Сюда вали…
Да вот еще однажды в трамвае увидел какого-то рыженького господина. Он что-то балакал на явно несуразном языке, который должен был быть «украинским». Очевидно, он хотел выслужиться перед мрачного вида личностью, которая его слушала с благосклонным отвращением.
Вот и вся «украинская словесность», которую мне удалось вычерпать из Киева в течение десятидневного пребывания в столице Украины.
Пришел Антон Антоныч, чуть-чуть поскользнувшись на каменном полу, посыпанном отрубями. Он недовольно ругнул порядки, что он делал неизменно при всяком случае, а мне сказал:
— Вот вам билет. К сожалению, на хороший поезд, которым я хотел вас везти, не достал. Но и этот ничего. Отходит в двенадцать сорок. Идите в «мягкие», то есть во второй класс. Я там буду, но в другом купе. Мы друг друга не знаем. Познакомимся в дороге. Не идите раньше, а идите к самому отходу поезда. Возьмите носильщика, он вас проведет.
И вдруг прибавил, причем его строго наморщенное лицо сделалось совершенно иным:
— Ох, я вас ужасно люблю. Но вздохну я свободно только тогда, когда с вами расстанусь… Это будет мой счастливый день…
Я не мог бросить Киеву прощального взгляда через решетку железнодорожного моста, как это полагается, потому что, во-первых, был туман, а во-вторых, окна замерзли. Вещи мало совместимые, но иногда бывает. Впрочем, особенных вздохов я бы не мог из себя выдавить.
В самом деле, что я покидаю в этом Киеве? Что-то покидаю. Но что именно, я и сам еще не мог определить. Во всяком случае, я не покидал здесь ничего такого, о чем вздохнул бы раньше. Нет, решительно ничего…
Я подумал о том, что за десятидневное пребывание, из которого шесть дней я непрерывно шатался по улицам, я не встретил ни одного знакомого лица. В любом большом городе Западной Европы это было бы невозможно: кого-нибудь я бы узнал или кто-нибудь меня бы узнал. А здесь, кроме «черного пальта», которое оказало мне любезность обратить на меня внимание, никто, можно сказать, даже не чихнул. Да и черное пальто это было еще какое-то подозрительное опознавательство: быть может, он узнал во мне какого-то разбойника, каким я при всех своих грехах никогда не был.
Вот тебе и родной город.