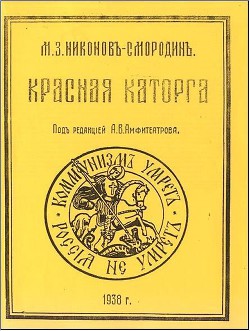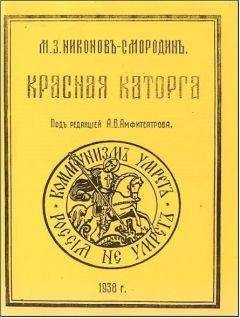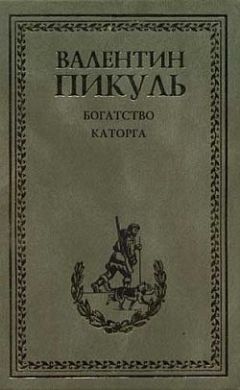Иным стал и строй лагерной жизни. Например, роль ротных командиров совершенно переменилась. Если раньше ротный был на одной ноге с чекистом, то теперь он стал козлом отпущения за неполадки по обмундированию и кормежке заключенных, беспардонная шпана не ставит его и в грош, ругает самыми последними словами, обращается к нему со всякими требованиями о своих нуждах. Практически, конечно, от всех этих требований командир отделывается ссылками на аппарат, а ругатель все равно идет на работу и без обуви, ибо, если он не пойдет, то не получит хлеба.
Так постепенно уходила в область преданий старая каторга, на её смену шел «каторжный социализм».
3. КОЛЛЕКТИВИЗАТОРЫ И КОЛЛЕКТИВИЗИРУЕМЫЕ
Раннее утро. В большой комнате с окнами под потолком, похожей на сарай и предназначавшейся для кроликов, спят на деревянных топчанах и сенниках мои компаньоны: Гзель, Серебряков, Вася Шельмин и бывший завгуж соловецкого сельхоза Виктор Васильевич Косинов, перешедший теперь на работу в питомник. Я смотрю на большое сырое пятно на потолке. Оно сильно уменьшилось против вчерашнего. Эту комнату закрыли потолком только третьего дня и от топки железной печи стены и потолки отпотели, а теперь понемножку подсыхают.
На соломе, около железной печки, спят четверо белоруссов-крестьян, рабочих крольчатника: Говоровский, Волотовский, Сементковский и Пинчук. Я выхожу из комнаты в холодный коридор, не имеющий даже еще и дверей, брожу между транспортными ящиками с кроликами. Вносить их в теплое сырое помещение — значило бы погубить. Но и здесь им не легче; клеток нет и они сидят в узких отделениях транспортных ящиков, не будучи в состоянии даже лечь во всю длину.
Из дверного проема коридора появляется фигура молодого человека в черном пальто.
— Вам что?
— Мне бы хотелось устроиться сюда на работу, — говорит он, развязно растягивая пальто и доставая из внутреннего кармана бумажку.
— Где вы теперь работаете?
— В КВЧ. Да там какая работа? Никакой работы нет… Мне бы хотелось научиться настоящему делу.
Это мне понравилось. Бумажка оказалась заявлением от имени Степана Гонаболина.
— Ну, что-ж, я поговорю с директором.
Спустя несколько минут в коридор вошел высокий брюнет в полупальто и шапке-малахае. В руках — папка. Поздоровался со мною и отрекомендовался Ричардом Августовичем Дрошинским.
— Я встречал эту фамилию в Казани. Не вы ли были в семнадцатом году комиссаром от совета в Казанской губернской чертежной?
— Это мой брат. Он расстрелян большевиками. Я, собственно, сел в лагерь за отправку его детей в Польшу.
Дрошинский также хотел работать в крольчатнике.
Тем временем проснулись рабочие и мы принялись за работу.
Мы взяли себе за правило сначала кормить животных, а затем уже завтракать самим. На питомнике поверок не было и мы распределяли работу как было удобнее для нас.
Мои новые рабочие работали усердно, ибо кормились вволю. В моем распоряжении были хлеб, мука, овощи и даже молоко. Разумеется, я не ходил в ИСО справляться могу ли я брать для своего пропитания из кроличьих продуктов, но ел сам и кормил своих рабочих. Тут же на железной печке мы варили свой обед и все вместе ели.
— Вы не знаете — кто такой Гонаболин? — спросил я у Косинова за едой.
— Кажется из «своих» (т. е. из шпаны), — неуверенно сказал он.
Пришел Туомайнен. Он поселился в Повенце и сюда только приезжал.
— Дело скверное, — говорю я ему. — Если не будет доставлено для кроликов клеток — животные передохнут.
Туомайнен пожал плечами.
— Это дело фибролитной фабрики. Почему она не доставляет клеток я не знаю.
У Туомайнена были какие-то счеты с кем-то из лагерного начальства, и он, как будто, даже был доволен скверным оборотом дела с клетками.
Новых людей он принять разрешил и через несколько дней они перешли в наше помещение в сектор крольчатника.
* * *
Ричард Августович Дрошинский, сын ссыльного поляка, считал себя казанцем, Он прожил в Казани долгое время и, конечно, сидел в Казанском подвале. Его рассказы о расстрелах в почти родной мне Казани, были для меня неожиданностью. Оказалось: десять лет спустя после крестьянского вилочного восстания, начавшагося в Заинской волости Мензелинского уезда, возглавленного мною и Миловановым. Милованов был изловлен и ему учинен в Заинске показательный суд. Суд приговорил его к десяти годам концлагеря, вероятно, потому, что я не был расстрелян и сидел в Соловках. Как водится, в волне после этого процесса, были расстреляны многие тысячи крестьян ничуть не причастных к восстанию, уже забытому за давностью.
— В 1930 году подвалы были набиты до отказа, — рассказывает Дрошинский. Вели все новых и новых. Спросишь при удобном случае — кто такие, — ответъ — один вилочники. И каждую ночь их группами расстреливали в известном вам сарае.
И так, мы с Миловановым, два главаря восстания, активно боровшиеся с властью, — оставлены живыми, а обыкновенные рядовые, большею частью неграмотные крестьяне, гибли под пулями палачей, по чекистским «оперативным заданиям».
Но таков чекистский шаблон. За главным процессом над всякого рода вредителями, каэрами и диверсантами идет волна подвальных избиений с гибелью множества ни в чем неповинных людей.
— При мне было расстреляно много монахов, — продолжал Дрошинский. — Вот я вам на днях покажу: у меня тут есть восчик один. Парень молодой из монастырских послушников. Два его родных дяди и один монах из Семиозерной пустыни расстреляны были на его глазах.
Федя Бородулин действительно не потерял своего послушнического облика и остался застенчивым и богобоязненным молодым парнем.
— Поступайка к нам на работу, — сказал я, хлопнув его по плечу.
— Да, не знаю как, — мнется Федя. — В клетках они, как арестанты, эти самые кролики. Жалко их.
— Вот, чудак, так ведь их иначе и держать нельзя — на воле они здесь зимой погибнут.
Впоследствии он все же перешел на работу в крольчатник.
У нас были установлены ночные дежурства для охраны животных, находящихся в коридоре без единой двери. Дежурный через известное время ходил между ящиками и затем сидел около железной печки и поддерживал в ней огонь. Как только железная печь переставала топиться, в нашем сыром, наскоро сколоченном помещении становилось холодно.
Обыкновено дежурный из белорусской четвёрки делал все обстоятельно и время зря не терял. Он водружал на печку большой котелок и ночью варил горох; Когда снедь оказывалась готовой, дежурный будил остальных из своей четверки и вся четверка, общими усилиями опоражнивала котелок. После этого ночного пиршества дежурный начинал варить новую порцию гороху к завтраку, а остальная братия ложилась спать. Долгая голодовка по подвалам, тюрьмам и этапам так истощила этих здоровяков, что им еще долго пришлось здесь восстанавливать свои силы. Как же чувствовала себя остальная масса лагерного люда, так-же голодавшая, да еще и выбивающая здесь трудный урок!
Иногда и я сиживал у этой железной печки и в беседах постепенно узнал историю всей «четверки».
Самый старший из них — Пинчук, попал сюда как кулак, не желавший идти в колхоз. Волотовский (комсомолец и активист) бежал, но неудачно из колхоза. Говоровский получил пять лет лагеря за соперничество с некиим сельским секретарем комячейки в соискании благосклонности некой комсомолки. Победителем оказался секретарь, ибо сумел его упрятать в лагерь и тем завоевать комсомолку. Сементковский бежал из спецпоселка.
Волотовский весьма неохотно рассказывает про свои приключения, но все же рассказывает.
— У нас село не такое и большое, — нехотя повествует он, — и расположено недалеко от границы. Актив у нас был большой. Как только началась кампания по коллективизации — мы, почитай что, всех соблазнили в коллектив идти. Потому — у нас до коллективизации ненадежный элемент каждый год понемногу отправляли в ссылку. И вот приходит распоряжение нашему всему селу переселиться на Кубань. Обещали нам там дать дома, хозяйства на ходу, отобранные от тамошних кулаков. Ну, и вот привозят нас туда в пустое село. В том селе ни одной-то живой души нет — пустое совсем село. Может быть кого убили, а кто с голоду умер: только в иной хате или бо на дворе мертвецы были. Ну, а хаты для житья не гожи совсем… Привезли нас уже осенью, холода начались.