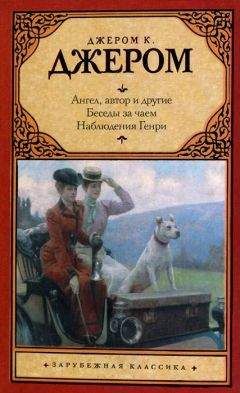— Я могу дополнить вашу историю другой, — заполнил паузу философ. — Месяц или два тому назад Джим прислал мне два билета на одну из его премьер. Билеты попали ко мне только в четыре часа пополудни. Я пошел в клуб в надежде найти того, кто составит мне компанию. Увидел только одно знакомое лицо, застенчивого молодого человека, нового члена. Его недавно приняли на работу в адвокатскую контору Бейтса в Стэпл-Инн. Думаю, вы его встречали. В Лондоне он мало кого знал, поэтому с радостью принял мое приглашение. Пьесу давали из фарсов о французском дворе: какую именно, значения не имеет, все они похожи. Интрига заключалась в том, что кто-то пытался согрешить, но так, чтобы не поймали. Такие пьесы всегда принимаются хорошо. Английской публике неизменно нравится сюжет, при условии, что все щедро сдобрено юмором. Нас шокирует только серьезное обсуждение греха. На сцене мы видели обычное хлопанье дверей и обычные крики. Вокруг все смеялись. Мой молодой друг сидел с легкой улыбкой на лице. «Неплохой сюжет», — сказал я ему, когда занавес опустился второй раз под громкие аплодисменты. «Да, — ответил он, — полагаю, это очень смешно». Я посмотрел на него — он был чуть старше мальчика. «Вы еще слишком молоды, чтобы стать моралистом». Он рассмеялся: «Со временем я это перерасту». Позже он рассказал мне свою историю, когда мы получше познакомились. Он сам оказался участником такого вот фарса в Мельбурне — молодой человек родился и вырос в Австралии. Только третье действие закончилось иначе. Его юная жена, которую он нежно любил, восприняла все очень серьезно и покончила с собой. Глупейший поступок.
— Мужчина — чудовище! — воскликнула выпускница Гертона, которой нравилось припечатывать словом.
— Я тоже так думала, когда была моложе, — улыбнулась светская дама.
— А теперь не думаете, даже когда слышите такое? — спросила выпускница Гертона.
— Разумеется, милая моя, в мужчине многое от животного, — ответила светская дама. — Но в свое время я воспринимала их примерно так же, как и вы. Назвала дикарями в разговоре с одной очень пожилой дамой, с которой проводила зиму в Брюсселе много лет назад почти что девочкой. Давняя знакомая моего отца, она была милейшей и добрейшей… я чуть не сказала, самой идеальной женщиной, какую я только знала. Хотя в ее молодости, в раннюю викторианскую эпоху, о ней ходило столько историй. Лично я им не верила. Ее спокойное, благородное, невозмутимое лицо в обрамлении мягких белоснежных волос… я помню, как сразу подумала о ней, в первый раз увидев Маттерхорн.
— Дорогая моя, — рассмеялась старая дева, — ваше повествование становится таким же дерганым, как синематограф.
— Я и сама это заметила, — кивнула светская дама. — Стараюсь сразу рассказать слишком о многом.
— Мастерство raconteur[5] состоит в том, чтобы опускать несущественное, — заметил философ. — Одна моя знакомая, насколько я помню, никогда не добиралась до конца истории. Не имело ровно никакого значения, как звали человека, который что-то сделал или что-то сказал, Браун, Джонс или Робинзон. Но она начинает страшно волноваться из-за того, что не может ее вспомнить. «Да что это со мной! — восклицает она. — Я же точно знаю его фамилию. Какая же я глупая!» Она заявляет, что должна вспомнить эту фамилию, что всегда ее помнила до этого злосчастного момента. Обращается за помощью к половине присутствующих в гостиной. Не имеет смысла просить ее продолжить, она может думать только об этой фамилии. В конце концов неимоверными усилиями вспоминает, что фамилия эта Томкинс, но радость длится недолго. Женщина вновь впадает в отчаяние, потому что теперь забывает адрес Томкинса. Сгорая от стыда, она вновь отказывается продолжить рассказ и, коря себя, удаляется в свою комнату. Позднее возвращается, сияя, с названием улицы и номером дома. Но к тому времени она уже забыла саму историю.
— Так расскажите нам о вашей пожилой даме и о том, что вы ей сказали, — в голосе выпускницы Гертона слышалось нетерпение. Ей всегда нравилось, когда обсуждались скудоумие или преступные тенденции противоположного пола.
— Я находилась в том возрасте, — продолжила светская дама, — когда юная девушка, устав от сказок, откладывает книгу, вглядывается в окружающий ее мир и, естественно, испытывает негодование от того, что видит. Тогда я очень строго судила как недостатки, так и достоинства мужчины — нашего естественного врага. У моей пожилой подруги суждения эти вызывали смех, и я полагала ее черствой и глупой. Однажды наша бонна, как и все слуги обожавшая посплетничать, пришла к нам с историей, доказывающей мою правоту в оценке мужчины. Бакалейщик — его магазин находился на углу нашей улицы, — лишь четыре года женатый на очаровательной и любящей его женщине, бросил ее и сбежал. «Он даже не намекал о своих намерениях! — сообщила нам Жанна. — Чемодан с одеждой и всем необходимым запаковал заранее и неделю держал в камере хранения на вокзале. А потом сказал жене, что идет играть в домино и вернется поздно. Поцеловал ее и дитя, пожелал им спокойной ночи — и… больше она его не видела. Слышала ли мадам что-то подобное?» — заключила Жанна и вскинула руки к потолку. «Сожалею, если мне придется разочаровать тебя, Жанна, но слышала», — со вздохом ответила моя обожаемая мадам и перевела разговор на близящийся обед. Я повернулась к ней, как только за Жанной закрылась дверь. До сих пор помню, каким праведным негодованием горело мое лицо, потому что я часто разговаривала с этим бакалейщиком и всегда думала, какой он хороший муж — добрый, заботливый, души не чающий в своей femme.[6] «Разве это не доказательство моих слов, что мужчины животные?» — воскликнула я. «Боюсь, случившееся помогает склоняться к такой мысли», — ответила моя пожилая подруга. «Но вы все равно их защищаете», — упрекнула я ее. «В моем возрасте, дорогая моя, не защищают и не обвиняют, но пытаются понять. — И она положила тонкую бледную руку на мою голову. — Хочешь послушать продолжение этой истории? Не слишком приятное, но, возможно, необходимое для понимания». «Больше ничего не хочу слышать, — заявила я. — Наслушалась достаточно». «Иногда очень важно услышать все, а уж потом делать какие-то выводы. — И она позвонила, вызывая Жанну. — Эта история о бакалейщике, она меня заинтересовала. Почему он бросил жену и сбежал… ты знаешь?» Жанна пожала полными плечами. «Ох, это старая история, мадам», — и с губ ее сорвался короткий смешок. «Кто она?» — спросила моя подруга. «Жена месье Савари, колесного мастера? О таком муже может мечтать каждая женщина! А у них это продолжалось не один месяц — ведь его жена шлюха!» «Благодарю тебя, Жанна, можешь идти. — Она повернулась ко мне, когда за Жанной закрылась дверь. — Дорогая моя, как только я вижу плохого мужчину, сразу заглядываю за угол в поисках женщины. А когда вижу плохую женщину, то слежу за ее глазами: я знаю, что она подыскивает себе подобного. Природа все создает парами».
— Не могу отделаться от мысли, что переоценка женщин принесла человечеству немалый вред, — указал философ.
— Да кто их переоценивает? — пожелала знать выпускница Гертона. — Мужчинам свойственно говорить нам всякую чушь, — я не знаю, найдется ли среди нас хоть одна достаточно глупая, чтобы в это поверить, но я совершенно уверена: в своей компании они тратят большую часть времени, смешивая нас с грязью.
— Едва ли это справедливо, — вмешалась старая дева. — Я сомневаюсь, что между собой они говорят о нас так много, как мы думаем. И потом, это неправильно, закрывать глаза на факты. Многие прекрасные слова сказаны о женщинах мужчинами.
— Что ж, спросим их, — воскликнула выпускница Гертона. — Здесь присутствуют трое. А теперь, честно, разговаривая о нас между собой, вы восторгаетесь нашей добродетельностью, и добротой, и мудростью?
— Восторгаетесь? — раздумчиво повторил философ. — «Восторгаться» не совсем правильное слово.
— Справедливости ради должен признать, что наша гертонская подруга в определенной степени права, — сказал я. — Каждый мужчина в какой-то период своей жизни переоценивает одну конкретную женщину. Очень молодые люди, которым еще недостает жизненного опыта, восхищаются всеми без разбора. Для них ангелами становятся все, кто носит нижнюю юбку. Очень старые мужчины, как мне говорили, возвращаются к заблуждениям юности, но этого я еще не могу утверждать наверняка. А остальные… когда мы одни… что ж, соглашусь с философом, «восторгаться» не совсем правильное слово.
— И я о том же, — фыркнула выпускница Гертона.
— Возможно, — добавил я, — это результат реакции. Условности требуют, чтобы в лицо мы выказывали женщине подчеркнутое уважение. Все ее глупости должны восприниматься как довесок к обаянию — так постановили поэты. И это, возможно, приятно — дать маятнику качнуться в другую сторону.
— Но разве не факт, что лучшие и даже мудрейшие мужчины как раз те, кто ставил женщину очень высоко? — спросила старая дева. — Разве мы оцениваем цивилизацию не по позиции, которая отведена в ней женщине?