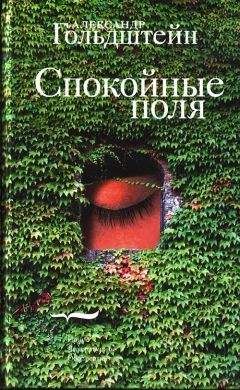— Отнюдь нет, я люблю говорить на эту тему, она недостаточно обсуждается, мало того, она освещается с негативной точки зрения. Профессионализм в институциональной деятельности считается чем-то нравственно преступным, это традиционно для художников — рассчитывать, что вне институций существуют правильные критерии, а внутри них все прогнило, продано, омертвело академизировано. Разумеется, понятно, что я придерживаюсь противоположных взглядов: единственно живое — это институции, и только там сегодня может жить художник. Критерии же профессионализма очень просты: все нынешние нонпрофитные институции функционируют так же, как профессиональная теннисная лига или футбольные клубы. Это многоярусная и многотестовая система отбора участников, причем как игроков, так и судей — кураторов. В теннисе, например, критерии применить легче, поскольку ведущая группа игроков, имена которых занимают несколько десятков верхних позиций в рейтинг-листах, удовлетворяют полному набору параметров: никто не извинит тебя, если ты хорошо подаешь, но скисаешь к четвертому сету. Это как пилоты, которые должны пройти все тесты по всем пунктам, поскольку если у тебя слабое сердце, никто не примет в расчет, что ты здорово держишь внимание. Сегодняшние критерии профессионализма, кто бы ни сдавал экзамен — художник, куратор или директор музея, предполагают тестирование по огромному количеству пунктов, и в работе участвуют лишь выдержавшие этот экзамен по всем показателям.
— В какой момент, живя на Западе, вы почувствовали, что входите в ту самую первую десятку, и что принесло с собой это ощущение?
— У меня нет такого чувства — должен сразу об этом сказать. Я нахожусь в состоянии экзамена.
— Объективно тем не менее вы присутствуете в рейтинг-листе сильнейших…
— Это внешнее впечатление, если приглядеться поближе и повнимательней, все обстоит не совсем так. Мне трудно об этом говорить, субъективно у меня такого ощущения нет, меня могут не принять в следующую игру, не пригласить на очередную выставку. В сущности, ведь речь идет о неприглашении.
— Сознание того, что вас могут не пригласить…
— Оно смертельно, смертельно. Ведь все мои работы связаны с продуцированием внутри институций.
— Это сознание возможной неудачи и неприглашения, хотел я спросить, сознание того, что вы можете не сдать еще одного экзамена, для вас продуктивно в творческом отношении?
— Очень, суперпродуктивно, мало того — оно единственно продуктивно. Мобилизация всех сил, в основе которой страх, а страх для меня и есть определяющий критерий. У меня были несколько работ, казавшихся мне стопроцентно хорошими, и все они не прошли, провалились, потому что имеет шанс только то, что сделано в состоянии ужасного стресса и страха.
— Существует ли зазор между вашей самооценкой и институциональными критериями приема ваших работ и если да, то насколько этот зазор постоянен и велик?
— Он существует постоянно и наполнен вот какими чувствами. В первую очередь страхами, что ты не сумеешь предложить новый вариант, а без этого предложения тебя могут в следующий раз не пустить, не принять. Далее нужно отметить, что все художественные институции представляют собой очень динамическую структуру, это гигантская шевелящаяся магма, которая каждый день в новом месте. Высказывается мнение, что институции эти безумно академизировались, застыли, омертвели и должны быть смещены, однако, с моей точки зрения, эта система не только невероятно быстро адаптируется к переменам, но и ориентирована на непрерывные изменения, на бесконечное восприятие все новых продуктов — она каждый день потребляет нечто другое и создает новые ориентации. И те люди, что находятся в этих институциях, идет ли речь о директорах или кураторах, тоже не являются постоянными. Это нанятые люди, столь же рискующие, столь же свободные и негарантированные, что и любой художник. Их гарантии заключаются исключительно в том, чтобы всякий раз, под воздействием и угрозой все того же страха, делать только самые интересные выставки, не щадя себя, не держась за то, что они совершили вчера, поскольку вчерашний день малозначим и постоянно должны происходить смещения в пользу новых направлений и вещей. Вот этой гибкостью, мобильностью, эластичностью нынешние художественные институции отличаются от предыдущих структур. Интересно, что музеи современного искусства сегодня не только не плетутся в хвосте, отставая от динамичных выставочных залов, кунстхалле, но являются составным элементом этого общего подвижного смещения и процесса. Таким образом, у музея в настоящее время двойная функция. С одной стороны, он представляет собой скользящую, ищущую, ловящую машину, созданную для улавливания всего нового и интересного, а с другой — отбирает задний багаж, который определяется по иному критерию — впрочем, это уже другая тема. Я же хотел сказать следующее: страх, что ты окажешься неспособным предложить нечто новое, удваивается страхом не попасть в сетку розыска. Правда, невозможно все время предлагать новые варианты, и система розыска направлена уже на будущее поколение, это процесс автоматический. Однако я повторяю: мотивы страха, поиска, боязни не выдержать экзамена, а отнюдь не мотивы стабилизации, являются уделом работы в равной степени кураторов, директоров и художников. Мы сейчас касаемся только таких художественных институций, как музеи современного искусства и кунстхалле, хотя в целом структура обладает многоярусным, глубоко эшелонированным устройством и включает в себя, например, галереи, о которых я не говорю умышленно, поскольку сегодня они коммерциализовались и фактически вышли из игры, из системы поисков. Когда-то галереи вели процесс, нынче они вторичны. А дальше идут всевозможные коммерческие структуры, связанные с покупками произведений коллекционерами, отелями и так далее. Все художники имеют свои налаженные схемы, и подлинной претензией является лишь желание перейти с одного этажа на другой, но это опять же совершенно особая тема.
А.Г.: Кто вам, сегодняшнему Илье Кабакову, интересен на Западе из людей искусства? Если взять, например, вторую половину XX века, послевоенный период, включив сюда и покойников?
И.К.: Я бы избежал этой темы, так как плохо помню, не располагаю общей картиной и вряд ли бы смог сконцентрироваться. Послевоенная система… Дело в том, что я не знаю такого понятия — «интересен». Интересно мне все, каждый одинаково любопытен и безразличен, но я внимательно слежу за тем, как весь этот опыт абсорбируется институциональной памятью, вот что меня действительно занимает.
— Насколько для вас продолжают быть актуальными литературные и шире — рассказчицкие, повествовательные формы высказывания?
— Можно сказать смело, что вербальные формы лежат глубже визуальных, я даже кое-что написал в этом роде. Рассказ для меня важнее показа, хотя эти методы взаимодополнительны, они играют друг с другом, да и нет у меня, по сути дела, никакого рассказа, я постоянно думаю о том, как бы его подложить под изображение, так что в чистом виде он тут не присутствует. Скорее, это рассказ в форме комментария, когда я смотрю на объект и мне что-то приходит в голову в виде некоего словесного потока. В конце концов можно сказать так: визуальная метафора провоцирует вербальные объяснения, но не исчерпывается ими, а словесный ряд вызывает ряд визуальный и опровергается им. Я нехорошо себя чувствую психически, если чего-то не расскажу, не опишу это словами, с другой стороны, есть вещи, которые невозможно описать, их можно только увидеть, а вот что ты при этом увидишь…
— Способны ли вы сегодня испытать удовольствие от чужого произведения, выполнено ли оно в слове или посредством визуальных способов выражения?
— Нет, никаких удовольствий я не испытываю. Сама работа надоела, да и вообще…
— Никакого гедонистического отблеска?
— Ни малейшего, все это из области каких-то…
— Ни от собственной работы, ни от просмотра чужого?
— Конечно, нет, вот уж о чем я могу сказать точно. Есть работы, сделанные правильно или неправильно, не более того, и удовольствие от просмотра первых — такое же, как у шахматистов, разбирающих правильно сыгранную партию. Это специфическое, профессиональное удовольствие, гедонизма в нем нет совершенно. То же относится и к собственной работе: испытываешь удовлетворение от верно найденного решения и совершенно обратные эмоции — например, страх — от решения неточного, адреналин тоже выделяется с избытком, но это особые, нимало не гедонистические ощущения.
— Что составляет круг вашего чтения, и придерживаетесь ли вы каких-то принципов выбора книг?