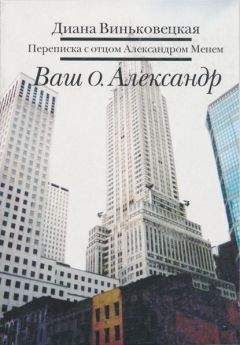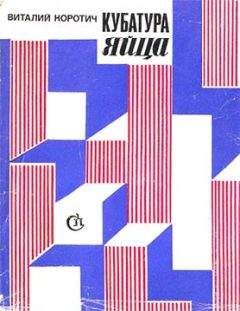Лагерь мы разбили на шлейфе подножья Кызыл–Тау, гранитных гор, внезапно и неожиданно возвышавшихся над степью. Горы были молодые, острые, дерзкие, с обрывистыми склонами, пропастями и безднами. В покатости «нашего шлейфа» были углубления, напоминавшие небольшие пещеры, гроты. Разрыв и углубив одну небольшую пещерку, Василич сделал погреб для продуктов. Из грота, который был недалеко от источника, он вырыл для своего жилья землянку, больше чем в рост человека. Две стены землянки оказались из мелкозернистого гранита, с прожилками розового полевого шпата, третья из брекчий, вкрапленных в светлопепельный лёсс. На полу Василич уложил деревянный щит, над входом в землянку, обнажалась дайка, трещина заполненная твердыми голубыми кварцитами, торчащие зубцы которой при взгляде снизу казались витками старинной башни. «Подземный дворец» вырыл себе только Василич, другие рабочие ленились, хотя и завидовали, что в такой землянке можно хорошо укрыться и от жары, и от ветра.
Повариха тётя Паша тоже работала по высшему разряду. Она такие придумывала блюда, что наслаждению, которое мы испытывали от её приготовлений, могли бы позавидовать посетители всех самых дорогих ресторанов мира. В кухне Василич сложил печку, делать всё: печь лепёшки, запекать дичь, жарить, а в казанах, замурованных наглухо в поверхность плиты, можно было тушить целых баранов, сайгаков, дроф. Дичь сама просилась к нам на обед, тем более, что начальник Борис Семенович был страстный охотник. Однако коронным блюдом тёти Паши был бишбармак! Даже в казахских юртах редко можно отведать бишбармак в таком изысканном исполнении. Барашек, отваренный в ароматных травах вместе с лапшой из ржаной муки таял в организме. Весной некоторые сопки покрывались молоденькой травой с оригинальным запахом чеснока, и этот полулук–получеснок, добавленный тётей Пашей в бишбармак и в другие кушанья, придавал пикантный вкус всем приготовлениям. А лепёшки с малиной, которые тётя Паша пекла по–казахски, на стенках печки, с чем сравнить?! Приходилось ли пробовать? Пили ли вы когда‑либо тёмный компот из свежей чёрной смородины, с сушенными грушами и яблоками? Все наслаждались тётипашиной кухней. С чувством уважительной гордости принимала тётя Паша наши восхищения: «Спасибо, дорога деточка!» — говорила она тому, кто просил добавки, и на её суровом лице появлялась лёгкая улыбка, при этом она слегка кланялась. При каждом обеде она приговаривала: «Кызымка засамая первая сядет — засамая последняя выйдет. И всё хохочет! И всё хохочет. Кызымке всё в смех».
Отношение к смеху в простонародье (да и не только) как к чему‑то чужому, непригодному, часто весёлые люди находятся в некотором презрении, тётя Паша считала, что только ненормальные и очень глупые могут смеяться. «По Агадырю ходит немой дурачёк, то ли татарин, то ли казах, ну, в точности смеётся, как наша кызымка. Ха… ха, да, ха… ха». И даже спросила у геофизика Вадима: «А не еврейка ли кызымка?»
Постепенно её снисходительное отношение ко мне стало принимать приятную форму: то насушит специально косточек от яблок, «кызымка, как трясогузка, страсть как любит эти зёрна», то зажарит любимые мною потроха, «кызымка одна токмо и съесть». Тётя Паша наблюдала за отношениями между всеми, делала умозаключения и оказывала свои предпочтения. Она заметила, что от меня зависит Василич. Я ему выписывала наряды. И хотя все в нашем отряде были только мужчины, но даже они заметили, что тётя Паша приветливей всего обращается с Василичем, его угощает, завтраки в поле заворачивает, миску с супом подаёт ему первому (даже начальник уступал эту привилегию). «Василич, возьми на канаву» — и нальёт целый бидон охлаждённого в роднике смородинного чая с мёдом — «Василич, изволь мясо с косточкой».
В дождливые дни все пристраивали свою промокшую одежду для просушки возле кухонной плиты. Тут тётя Паша была неограниченный властелин. Ключи от кухни в её руках приобретали власть ключей Петра, будто бы она отпирала и запирала небеса. Каждую вещь тётя Паша развешивала на своей иерархической верёвке в зависимости от положения её хозяина, вернее, своего к нему отношения. Она убирала, передвигала и меняла местами всё к своему месту, как Папа Римский, с притязаниями на «космический авторитет». Портянки и рукавицы Василича всегда занимали центральное место и висели на самых тёплых местах, затем шли куртки и принадлежности других фаворитов, «дорогих деточек», и дальше по рангу. Расстановка сапог и башмаков на плите, как некая высшая сфера деятельности, соответствовала установленным рангам тёти Паши. Кирзовые сапоги Василича возвышались над всеми другими и стояли у самого нагрева. Свои ботинки я часто находила где‑нибудь в последнем ряду, и со временем приучилась сама ставить их в отведённое место. Как‑то наш молодой рабочий Гришка потеснил сапоги Василича, и некоторое время спустя, можно было видеть, как гришкины сапоги вместе с портянками собаки таскали по всему лагерю. Тётя Паша их отлучила от печки. Высушенные вещи Василича, сложенные и проглаженные тётя Паша отдавала Василичу, и он произносил: «Борисовна, спасибо, уважила».
Кроме меня, которая неуверенно себя чувствовала и в кухне и в геологии, и никуда не вмешивалась, других женщин в отряде не было, и тётя Паша, окруженная мужской компанией, ощущала себя главой большого семейства. От похвал, от всей свободно–уважительной обстановки тётя Паша оттаивала на глазах. Не узнать стало нашу хозяйку–повариху, она подобрела, на её суровом лице стала иногда проскальзывать улыбка, и во всём её облике стала замечаться некоторая рассеянность. В кухне она повесила зеркало на гвоздик около плиты и, проходя мимо, невзначай взглядывала в него. Жёсткий, пронзительный взгляд её глаз будто помягчел, появилась какая‑то особая манера склонять голову, ещё страннее менялось лицо Борисовны при появлении Василича — оно становилось почти нежным и обаятельным. Как женские лица преобразуются! Я знаю многих чаровниц, владеющих искусством представать в разном обличии, и тётя Паша одна из первых среди них. Во всех её движениях сохранялось всегда чувство величия, сочетавшееся с едва заметными искринками в зелёных глазах, без всякого притворства. У тёти Паши кокетство было изысканным, природным, благородным, естественным (как научиться не переигрывать?) не иначе как царская кровь текла у неё в жилах — кровь царицы Клеопатры. (Когда много позже в Вирджинии в Шарлотвилле я увидела претендентку на княжну Анастасию, то по замшелости вида, эта претендентка без всякого анализа ДНК могла у тёти Паши только заколки вынимать.)
Чем ласковее она относилась к Василичу, тем нежнее были наши котлеты! Мы и месторождения начали открывать, наевшись и напившись изысканных приготовлений. А один наш техник, «дорога деточка», из свободных голодных художников, розовел и умнел на глазах, объедаясь тётипашиными лепёшками так, что стихи начал писать, а потом за них даже Главную премию получил. В степи подтверждалась мысль Платона, что богатство необходимо для достижения духовного совершенства.
«Борисовна, воды принести?» — спросит Василич тётю Пашу, — и несёт ей воду. Картошку вместе с ней чистит. Часто можно было видеть, как Василич сидит на кухне и молча курит, а Борисовна готовит. Как‑то я зашла за горячей водой на кухню и услышала, что Василич и Борисовна о чём‑то разговаривали, но при моём появлении замолчали. Не знаю, рассказывали ли они друг другу свои истории? Как и что? Были ли у них родственники? Семьи? Как попали они сюда? Я не имела никаких прав на их жизненные описания, да вряд ли кого‑нибудь они посвящали в свои тайны. Агадырские люди прячут свои чувства, происхождения, живут без прошлого, и при всеобщей болтливости есть какая‑то тайная завеса между людьми. «Там подполье — туда никого не пускают».
Я отдала тёте Паше свои старые платья на тряпки, а она сшила из них передник, перекроила, расшила, вырезала из красного сатина цветы и нашила их на светлый льняной ситец. Она шествовала по кухне своей особой победоносной походкой, держа в руках поварёшку, — сатиновые цветы передника переливались, как рубины на мантии, поварёшка сверкала как трость с набалдашником. Из пепельно–серых перьев дроф тётя Паша смастерила веер, комбинируя по очереди перья с зигзагообразными чёрными полосками и с поперечными белыми, скрепила их друг с другом, а нижнюю часть украсила маховыми пучками тёмно красного цвета. Получился роскошный веер Прасковьи Борисовны. Восхитившись её мастерством, я пропела песенку: «Этот веер чёрный, веер драгоценный, он в себе скрывает тайну и измену!» Она опять произнесла: «кызымке всё в смех», но в тоне уже не звучал прежний ироничный оттенок, а даже наоборот, лёгкая добродушная похвала. За одной и той же фразой сколько скрывается разного!
Вечерами Борисовна и Василич вдвоём играли на кухне в карты. В печке горел огонь, и по лагерю шёл лёгкий треск от горящего саксаула вместе с тонким смоляным запахом дыма. На столе стояла лампа, свет от которой падал на стоящий букет и лица. Освещённые перемешанным пламенем саксаула и лампы, шёлковые стебли ковыля с мелкими, но яркими оранжевыми и фиолетовыми цветами серо–зелёного типчака, с экзотически–искривлёнными ветками дубняка отбрасывали тень, которая расползалась по стене, ложилась на потолок, вздрагивала и придавала кухне таинственный вид. Тётя Паша сидела напротив Василича. Волосы зачёсаны, шея и плечи выступают из воротника, лицо выразительнозначительное, в глазах отсвечивающиеся отблески огня, в одной руке веер, в другой карты, на плечах шаль. Портрет герцогини Саксонской! Слово страшно сказать — у нас и Пронькины — герцогини!