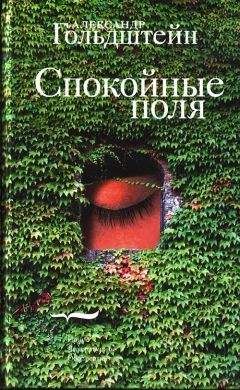Три года назад позарез, то есть до первой большой крови, необходимо было отметить близкую расовую уравниловку в Южной Африке (Де Клерк уже трещал по всем швам, белыми нитками наружу, Мандела, озираясь и скалясь, пер вперед, как священный вепрь из страшных африканских сказок, о чем извещали победные постеры во всех черных клубах Тель-Авива), и плодовитый беллетрист Надин Гордимер, еврейка и член АНК, выразившего душу народа коса (берегитесь, зулусы), в аккурат подвернулась под белую скандинавскую ручку. Как говорил Швейк, у нас в Будейовицах случилась аналогичная история. В 1984 году настало время дать тумака растленному режиму какого-нибудь закрытого общества, и опасная премиальная ноша свалилась на старого, заслуженного пражского поэта Ярослава Сейферта, угодившего в поле стокгольмского зрения в легендарный период весеннего наступления чешского и словацкого народов. Сейферта, благороднейшего литератора, еще Роман Якобсон рекомендовал шведскому комитету, который откликнулся, да вот беда — чешские вкусы с тех пор изменились, и тамошние филологи называют другие имена. И не только европейски модных Кундеру с Грабалом, но в первую, может быть, очередь Ивана Блатни, который в 1948 году эмигрировал в Англию, там сорок лет отгремел в сумасшедшем доме, где сочинял стихи и выбрасывал вон, а сиделка их все подобрала-спасла, или Юрия Колара, автора двух потрясающих (знатоки говорят!) «Дневников», стихотворного и прозаического, или Рихарда Вайнера, молодого, невесть куда сгинувшего создателя новой чешской поэтики, или еще кого-нибудь, я уже не упомню… Едва ли мы ошибемся, предположив, что и награждение в 1977 году Висенте Алейксандре, достойного, но не самого выдающегося участника знаменитого испанского «поколения 1927 года», вновь развернувшего на солнце трехсотлетние златотканые маньеристические знамена Луиса де Гонгора-и-Арготе, — что награждение это не было спровоцировано долгожданной кончиною каудильо, а попутно и полувековым юбилеем самого «поколения», уцелевшего представителя коего было решено увенчать на миру.
Политические книксены и подвохи порой соседствуют с национально-географической, расовой и половой благотворительностью. Ей-богу, легче смириться с превратностями политического метода — там хоть и не честная, но по-своему прямая функциональная игра, — чем с лицемерной распределительной похотью, напоминающей административно-представительские замашки футбольной и шахматной федераций, — лишь бы Третий мир, поставляющий голоса избирателей, не обиделся, а уж первый как-нибудь перебьется. К счастью, примеры подобного рода все-таки не так многочисленны, равно как и модные сейчас реверансы в сторону меньшинств, в каковые поразительным образом зачисляют и женщин (разве что прошлогоднее награждение чернокожей американки Тони Моррисон, писателя отнюдь не великого, отдало дань популярным тенденциям). А с другой стороны: ну как воспротивишься увенчанию не самого значительного русского автора эпохи — Ивана Алексеевича Бунина? Была, была в этом акте обаятельная и даже смелая репрезентативность, ибо представительствовал литератор за всю русскую послереволюционную диаспору, а в Стокгольме, сочувственно улыбаясь, неложно свидетельствовали: не только тернии и волчцы, горький хлеб и тяжелые ступени чужих лестниц — вековечный удел изгнанника, но и звезды, и лавры, и скромные деньги шведского генерального штаба, вскоре просаженные по неискоренимой дворянской привычке. И не важно, что в самой эмиграции выбор Бунина разбередил муравейник раздраженных противочувствий, и, например, Цветаева предпочитала официальному лауреату неофициальных триумфаторов Мережковского и Максима Горького. Неважно, повторяю, все это, потому что по меркам высшей и несуществующей справедливости, коль скоро наградить пожелали именно русского литератора, премию следовало дать Михаилу Зощенко, который создал «Библию труда» — новый художественный мир, конгениальный дотоле никем не испытанному миру повседневной советской реальности. Но ведь подобная перспектива была просто немыслима, ибо, помимо достаточно твердой шкалы политических ориентиров и распределительного национально-географического долженствования, у Нобелевского комитета существует и не менее строгая система срединно-буржуазных художественных предпочтений, которая такого писателя, как Зощенко, по сию пору не предусматривает ввиду его несерьезности.
От нечего делать вообразим красивую ситуацию: нет никакого давления параллельных рядов, руки развязаны, взоры чисты и требуется всего лишь определить чемпиона исходя из имманентных критериев литературного совершенства, не отторжимого от высоты идеалов. Эта ситуация встречалась не раз и не два, и каждый, кто даст себе труд заглянуть в перечень призванных, может ознакомиться с ее результатами. О, будем же наконец справедливы — в этом списке немало прекрасных имен, без коих уже абсолютно немыслима — ну и так далее… В этом списке есть имена вопиюще забвенные (кто станет сегодня вчитываться в нагоняющих сонную одурь Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса или Грацию Деледда, которая, как скромно заметил комментатор, сочиняла по внутренней потребности, без особых интеллектуальных претензий?), но эти бескорыстные и смешные издержки можно отнести на счет переменчивой моды. Ясно же, что лет через пятьдесят иные из нынешних великих предстанут в свете клиническом и беспощадном. Или вообще никому до них дела не будет, вместе со всей остальной бессмертной литературой.
Столь же очевидно, что эстетический радикализм не в чести, а господствует приятная, благожелательная, всепонимающая и нестерпимо толерантная буржуазность, с самого основания так повелось, опять же чиркните шведскою спичкой и пройдитесь по списку пристальной перекличкой, леденящей поверкой. Кое-кто из революционеров пера снискал громкую репутацию посмертно, а с Аидом, Элизиумом и Валгаллой у академиков нет премиального сообщения — так задумано учредителем, и нарушен завет только однажды, да и то в пользу покойного соотечественника, поэта Эрика Карлфельдта в 1931 году (кстати, полным-полно шведов, как сказал бы Колдуэлл, хотя и хорошие попадаются). Но и прижизненных случаев сполна бы хватило на конкурирующую лауреатскую программу. А посему не следует спрашивать попусту, как это никто не подумал наградить Джеймса Джойса — автора неприличного и скучного фолианта — какие-то намеки, иносказания, мифология с порнографией. Или не догадался взглянуть в сторону утомительного Роберта Музиля, одержимого своей пугающей трехтомной метафизикой. Германа Броха, написавшего сновидческую и мерцающую нездешней красотой «Смерть Вергилия», как будто приметили, но, разумеется, вовремя исключили, чтобы не портил пейзаж. Об Альфреде Дёблине и говорить нечего — никому не хотелось возиться с этим неуживчивым еврейско-католическим мистиком, критиком общества и обновителем техники эпического повествования. Все эти авторы были для Стокгольма фигурами окраинными и эксцентричными, нормам среднебуржуазного истеблишментарного вкуса они удовлетворяли слабо. Подозреваю, что выбор, обрушенный в 1981 году на старые плечи Элиаса Канетти, последнего живого представителя этой феноменальной традиции мысли, был типичной обмолвкой для психоанализа — травматически уязвленное подсознание комитета прогнулось под темным грузом давней вины.
В разряд непристойных попадают как отдельные люди, так и целые жанры. Литература для стокгольмских раздатчиков — неумолимая канцелярия с кабинетами: прозы, поэзии, драматургии. Шаг влево, шаг вправо — не видать тебе чаши на пире отцов, навсегда оставят без ужина. Чтобы заслужить угощение, нужно написать пьесу, поэму, роман. Смешение форм уравнено с кровосмешением. Прочие жанры в последние десятилетия признаны недействительными. Любопытно, что в первой половине столетия премиальные вкусы были податливей, а представление о границах литературы — свободнее, шире. Не считалось зазорным, например, наградить за заслуги перед словесностью авторов «Истории Рима» Теодора Моммзена или философов Анри Бергсона и Рудольфа Эйкена (последнего, впрочем, сейчас мало кто читает), но важен принцип. Однако не слышно, чтобы кто-нибудь предлагал кандидатуры Клода Леви-Стросса и Мишеля Фуко, этих немаловажных писателей по философско-антропологическим вопросам (да и стилистов изящных, не пришлось бы краснеть), жертвы которых на гуманитарные алтари, надо полагать, сопоставимы с аналогичными коллективными подношениями Надин Гордимер, Тони Моррисон и Нагиба Махфуза (я ограничил поле обзора минувшими семью годами). Умберто Эко, не надеясь на справедливость, начал с горя писать романы и, весьма на таковом поприще преуспев, самого высшего знака отличия пока что не получил. Продолжать можно долго, и занятие это неблагодарное. Все и так уже ясно.
Кэндзабуро Оэ — вспомним о нем напоследок — писатель умный, хороший, отзывчивый, настоящий современный японец, не Юкио Мисима сумасшедший, попал в самую точку, в наилавровейший нерв, в сонную премиальную артерию. Многие годы квалифицированно сочиняя романы, он дописался до благожелательного модернизма, сшитой по среднему росту утопии и нестрашного апокалипсиса (не сегодня и не завтра, а вчера). В этой гигроскопической, удачно всплывающей в нобелевской проруби прозе есть несомненная прелесть. Мы, по крайней мере, убеждаемся в том, что катастрофический мир в избранных своих отсеках пребывает незыблем вне зависимости от дня творения на календаре.