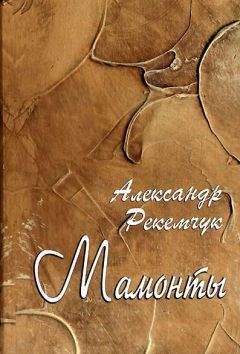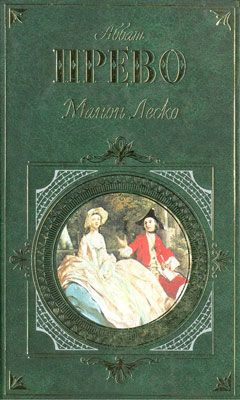Об этом можно теперь лишь гадать.
Но главное, что следует иметь в виду и что предопределило его судьбу — а он, безусловно, отдавал себе отчет в том, чем это пахнет, — он отказался от предложения, от которого нельзя было отказаться.
Уместно вспомнить, что десятью годами раньше, в Париже, когда ему — так сказать, в порядке испытания — приказали поехать в Прагу и там застрелить лидера когдатошней Учредилки Виктора Чернова, — он не вдавался в обсуждение самого приказа. Правда, он так и не выполнил этого деликатного поручения. Но отказаться от него не посмел.
Теперь же, возмужав, пройдя тернистый путь, своими глазами увидев всё, что происходило вокруг, и оценив происходящее своим, а не заемным умом, он принял решение, которое, он знал, будет стоить ему жизни: это был отказ.
За ним пришли 1 июля 1937 года.
В качестве понятого пригласили дворника Андрющенко.
Двадцать пять лет спустя, когда компетентным органам (вероятно, в связи с моим заявлением о реабилитации отца) понадобилось восстановить некоторые детали и подробности дела, выяснилось, что уже никого нет в живых либо нет в пределах досягаемости: ни тех, кто возбудил дело, ни того, кто подписал ордер на арест, ни тех, что явились арестовывать, ни, подавно, того, за кем пришли.
Время сберегло лишь дворника Андрющенко, с его бляхой, с его метлой, с его памятливым глазом. С его как бы извечной миссией русского дворника: оставаться свидетелем и летописцем событий, понятым истории.
С его слов и была составлена бумага, которую мне довелось читать.
О том, что жильца квартиры номер 51 в доме номер 5 по улице Челюскинцев (бывшая Костёльная) на месте не оказалось, неизвестно, куда подевался, может — убёг. Что он так и не знает, удалось ли всё же найти и арестовать того, на кого был ордер. Что опись имущества не производилась, потому что весь зажиток принадлежал хозяину квартиры Михаилу Юлиановичу Бурштейну, тестю, то есть отцу его жены, а у самого Рекемчука ничего не было — ни кола, ни двора.
Можно предположить, что в эти летние дни он обретался на Трухановом острове, на даче своего тестя, — что там его и взяли.
К этой поре он уже не работал ни в музее, ни на киностудии, а был, как скажет он сам, безработным — и это запишут в протокол задержания.
После личного обыска его препроводили в спецкорпус Киевской тюрьмы.
Именно там, в тюремной камере, у него еще был некий запас времени, чтобы понять, что с ним случилось, догадаться — ведь он был трезвомыслящий человек, — что ничего хорошего ждать уже нельзя. Тут он мог обдумать все свои прегрешения, вольные и невольные. И, вообще, взглянуть на прожитую жизнь как бы со стороны.
Собственно, такую попытку — подвести итог жизни, — он сделал годом раньше, в мае 1936 года, собственноручно написав ту испанскую «Автобиографию Командира Запаса РККА», которую я уже цитировал и в предыдущей главе и раньше.
Похоже, что еще тогда — в мае тридцать шестого, — он хотел завязать с этим делом.
Не с журналистикой, конечно, не с живописью, не с кино, даже не с профессией боевого офицера.
А с тем грязным делом, в которое вляпался по молодости лет, ради того, чтобы любой ценой вернуться в Россию.
Между тем, он, конечно, знал, что завязать с этим делом еще не удавалось никому и никогда. Что если уж ты однажды подписал этот жесткий контракт с судьбой, с секретной службой, то она тебя не выпустит из своих когтей до гробовой доски, сколь бы невинный и приятный род занятий ты для себя ни выбрал впредь.
Бывших чекистов не бывает.
Он отдавал себе отчет в том, что разведка — тем паче, нелегальная разведка — это навек. Слишком многое знает такой человек, чтобы позволить ему расслабиться хотя бы на старости лет.
Тем более, что он не был стар — сравнялось сорок. Как говорится, мужчина в расцвете сил, в самом соку. Тут бы только и строить планы дальнейшей жизни!
С чего же я взял, будто бы он хотел завязать?
А я просто вновь и вновь перечитывал его «Автобиографию Командира Запаса РККА…»
Именно там, с похвальной дотошностью, были изложены подробности его воинской службы: лейб-гвардии Измайловский полк, ранения, Одесская школа прапорщиков, опять ранения, производство в штабс-капитаны, участие в съездах армейских депутатов — в Пскове, в Двинске, — назначение командиром минометной команды 2-го Социалистического полка, в Бессарабии, то есть уже в Красной Армии.
В этой рукописной автобиографии не было ни слова о пикантном задании Советского консульства в Париже — поехать в Прагу и убить Чернова; нет ни звука о тридцати девяти нелегальных ходках через границу; нет и намека на таинственные дела в Румынии, Польше, Германии человека по фамилии Киреев, Ильин, Раковицкий, Миртов, Дюран, Гайяр, которые фигурируют в более ранней автобиографии тридцатого года, секретной, написанной для служебного пользования.
Мне могут возразить, что он и не мог — просто не имел права! — излагать подобные конспиративные данные в своей биографии, написанной, скажем, для райвоенкомата, где он состоял на учете, как командир запаса Красной Армии.
Да, это так, спору нет.
Но я прочитывал на этих страницах, в этих строках то, что вело его мысль, его слог.
Во всяком случае, мне кажется, что я прочел это верно, как может быть дано лишь сыну, читающему руку отца, ведущему след его души.
Я убежден в том, что он излагал свою жизнь так, как ему хотелось бы ее видеть.
Блюдя требования секретности, он как бы очищал себя и свою жизнь от грязи, неизбежной для человека, подавшегося в тайные службы.
Писал — и уже сам верил, что именно так и было на самом деле…
Всё это было правдой. Но, вместе с тем, это было лишь половиной правды. То есть, это было тоже своего рода легендой.
Лелеял ли он в душе планы вернуться в ряды той русской армии, в которой служил в молодые годы, и пролил кровь, и заработал боевые ордена, — но которая теперь стала иначе называться: Рабоче-Крестьянская Красная Армия?
Хотел ли он именно этого?
Смею предположить, что да.
Ведь именно в эту пору возвращались в русскую армию ветераны царской службы — люди, нюхавшие порох не в расстрельных подвалах, а в честном бою.
Знакомые с подоплекой событий, с тем, что творилось в окружающем мире.
Они понимали неизбежность тотальной войны.
Но именно в этот момент и был нанесен сокрушительный удар по Красной Армии.
11 июня 1937 года Верховный Суд СССР рассмотрел в закрытом судебном заседании дело по обвинению в измене Родине группы крупнейших военачальников страны — маршала Тухачевского, командармов Якира, Уборевича, Корка, комкоров Примакова, Эйдемана, Фельдмана, Путны… Все они были расстреляны.
Позднее расстреляли и тех, кто входил в состав суда: маршала Блюхера, командармов Алксниса, Дыбенко… впрочем, последний застрелился сам, когда за ним пришли.
Волна арестов, судилищ, расстрелов прокатилась по всем военным округам. Жертвами кровавой зачистки стали, по меньшей мере, 40 тысяч командиров Красной Армии.
Сообщение о суде над Тухачевским появилось в газетах пятнадцатого июня 1937 года, то есть за две недели до ареста моего отца.
Нет сомнений в том, что он читал эти газеты — может быть там же, в дачной тиши Труханова острова.
Он понял, что его ждет.
Полвека спустя, мне попала в руки книга Владимира Карпова «Генералиссимус», посвященная, как это явствует из ее названия, Сталину.
В одной из центральных глав этой книги, обозначенной как «Военный заговор», были следующие строки:
«В 1990 году я написал книгу „Расстрелянные маршалы“, есть в ней очерк и о М. Н. Тухачевском. Очерк написан в „оправдательном“ стиле, в соответствии с опубликованными в те года газетными и журнальными статьями и реабилитационной эйфорией, которой поддался и я.
В ходе работы над книгой „Генералиссимус“ я более глубоко разобрался в причинах репрессий, опираясь на новые архивные документы, рассекреченные в перестроечные годы. В связи с этим пусть не удивляет читателей иная оценка и иной подход к „делу Тухачевского“, не совпадающие с тем, что было написано мной прежде…»
Всё это заинтересовало меня тем более, что я очень давно и довольно близко знал автора книги.
Мы учились вместе с Володей Карповым в Литературном институте. Большинство студентов тех лет составляли фронтовики: Владимир Тендряков, Юлия Друнина, Эдуард Асадов, Юрий Бондарев, Евгений Винокуров, Григорий Бакланов, Ольга Кожухова, Андрей Турков, Григорий Поженян, — все увешанные боевыми орденами и медалями. Позже их имена зазвучали и в литературе.
Но даже на этом батальном фоне выделялась фигура Владимира Карпова. Он был Героем Советского Союза, причем заработал это звание не в штабном крысятнике, а на передовой. На его личном счету было 45 «языков», взятых в тылу врага.