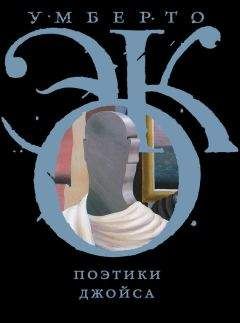В подобных произведениях сразу бросается в глаза различие на макроуровне между этими новыми формами музыкальной композиции и освященной временем традицией музыкальной классики. Это различие в простейшем виде можно сформулировать так. Классическое произведение, будь то фуга Баха, «Аида» Верди или «Весна священная» Стравинского, – это некое множество звуковых единиц, которое композитор организует вполне определенным и завершенным образом, прежде чем представить свое произведение слушателям. Композитор выражает свой замысел в условных символах, которые в большей или меньшей степени обязывают возможного исполнителя воспроизводить ту музыкальную форму, которую создал автор. Что же касается новых музыкальных произведений, упомянутых выше, то они отвергают идею предопределенного, завершенного «сообщения» (message, mesaggio) и предоставляют широкий выбор возможностей сочетать и перераспределять составляющие их элементы. Такие произведения взывают к инициативе каждого индивидуального исполнителя; они предлагают себя не в качестве завершенных композиций, которые предписывают заранее определенное воспроизведение в заданных структурных координатах, но в качестве «открытых» произведений, которые завершаются исполнителем в самом процессе их исполнения и эстетического восприятия[86].
Во избежание терминологической путаницы надо подчеркнуть, что в данном случае термин «открытое произведение» используется для описания новой диалектики между произведением искусства и его исполнителем-интерпретатором – и такое использование этого термина следует отличать от иных, более традиционных (но столь же возможных и легитимных) его употреблений.
Так, например, специалисты по теории эстетики часто используют понятия завершенность (completeness, definitezza) и открытость (openness, apertura) при анализе того или иного конкретного произведения искусства. Эти два слова обозначают обычную ситуацию, в которой мы все оказываемся, когда воспринимаем произведение искусства: мы видим в нем конечный продукт творческих усилий автора создать такую последовательность коммуникативных эффектов, которую каждый индивидуальный адресат может понять по-своему. Адресат поневоле вовлекается в процесс взаимодействия стимулов и ответных реакций, который во многом зависит от его, адресата, индивидуальной способности воспринимать данное произведение. Таким образом, с одной стороны, автор предоставляет адресату завершенный продукт, подразумевая, что данное произведение должно быть воспринято и оценено именно в той форме, в какой автор его задумал и создал. Однако, с другой стороны, вовлекаясь в игру (взаимодействие) получаемых стимулов и своих собственных реакций, адресат неизбежно привносит в этот процесс свой собственный жизненный опыт, свою сугубо индивидуальную манеру чувствовать, свою определенную культуру, свой комплекс вкусов, наклонностей и предрассудков. Поэтому восприятие и понимание им исходного произведения всегда модифицировано этой индивидуальной точкой зрения. По сути дела, произведение искусства приобретает тем большую эстетическую ценность, чем больше число различных точек зрения, с которых оно может быть воспринято и понято. Все эти различные точки зрения обогащают восприятие многообразными резонансами и отзвуками без ущерба для изначальной сути самого произведения. Этим произведение искусства отличается, например, от дорожного знака, который может и должен быть увиден и понят лишь в одном определенном смысле; если же какой-нибудь водитель с богатым воображением придаст данному знаку некое иное, фантастическое значение, то тогда для него (водителя) этот знак просто перестанет быть этим дорожным знаком с этим конкретным значением.
Произведение искусства, таким образом, – это завершенная и закрытая форма, уникальная как организованное органическое целое, но в то же время – открытый продукт, поскольку он может быть подвергнут бесчисленному числу различных интерпретаций, не посягающих на его неизменную самотождественность. Поэтому любое восприятие произведения искусства – это одновременно и интерпретация, и исполнение, потому что при каждом восприятии произведение позволяет увидеть себя с иной, новой точки зрения.
Тем не менее очевидно, что произведения вроде музыкальных композиций Берио и Штокхаузена «открыты» в гораздо более радикальном смысле. Есть соблазн сказать, что они вполне буквально «не завершены» и что автор передает их исполнителю, словно детскую игру «Конструктор», состоящую из набора деталей, и как будто не озабочен тем, как именно эти детали, эти компоненты будут использованы.
Такая интерпретация данного феномена столь же парадоксальна, сколь и неточна, ошибочна, но подобная ошибка, подобное недопонимание обусловлены непосредственным восприятием этих музыкальных форм. Более того, сам факт недопонимания – продуктивен: он побуждает нас задуматься о том, почему современный художник ощущает потребность в подобных творческих поисках, какова была та историческая эволюция эстетики, которая привела к таким поискам, и какие факторы в современной культуре им способствуют. Только продумав эти вопросы, мы сможем подступиться к анализу новых художественных опытов с точки зрения теоретической эстетики.
Как заметил Анри Пуссёр, поэтика «открытого» произведения поощряет «сознательную свободу» исполнителя и помещает его в самый центр системы бесчисленных взаимосвязей; он волен творить из них любые формы, не будучи связан никакой внешней необходимостью, которая бы предписывала ему те или иные способы организации материала[87]. На это можно было бы возразить (ссылаясь на более широкое значение слова «открытость», о котором шла речь выше), что любое произведение искусства, даже если оно не поступает к адресату в незавершенном виде, требует свободного, творческого восприятия хотя бы потому, что оно не может быть по-настоящему оценено, если исполнитель-интерпретатор не создаст его как бы вновь (reinvents, reinventa) в своего рода психологическом сотрудничестве с автором произведения. Однако подобное возражение воспроизводит теоретические взгляды современной эстетики, взгляды, выработанные в результате длительной рефлексии о природе и функции искусства. Конечно же, художник, творивший несколько веков тому назад, был далек от осознания этих проблем. Напротив, в наши дни именно люди искусства лучше других осознают их значение. Поэтому вместо того, чтобы просто принимать «открытость» как неизбежный элемент любой интерпретации художественного произведения, современный художник превращает ее в составляющую своего собственного творчества, создавая произведения, в которых изначально заложена максимально возможная «открытость».
Значимость субъективного фактора в интерпретации произведения искусства (поскольку любая интерпретация подразумевает взаимодействие между адресатом и самим произведением как объективным фактом) отмечалась уже древнегреческими и римскими авторами, особенно когда они рассматривали изобразительные искусства. Так, Платон[88] в диалоге «Софист» замечает, что художник изображает пропорции, не следуя некоему объективному канону, но определяя их относительно того угла зрения, под которым изображаемое видно зрителю. Витрувий[89] различает «symmetria» и «eurhythmia», подразумевая под последней приспособление объективных пропорций к потребностям субъективного видения. Научная и практическая разработка методов изображения перспективы свидетельствует о том, как постепенно все яснее осознавалось значение интерпретирующей субъективности в восприятии произведения искусства. Но столь же очевидно, что это понимание порождало стремление ограничить «открытость» произведений искусства и усилить их «закрытость». Различные приемы изображения перспективы были просто уступками точке зрения наблюдателя, имеющими своей главной задачей заставить его смотреть на изображенное единственно возможным правильным образом, т. е. именно так, как автор произведения (художник) хотел направить его внимание и для чего он и изобрел все эти визуальные приемы.
Рассмотрим еще один пример. В Средние века возникла теория аллегории, которая утверждала возможность чтения и толкования Священного Писания (а позже и поэзии, и произведений изобразительного искусства) не только в буквальном смысле, но еще и в трех других смыслах: моральном, аллегорическом и анагогическом. Эта теория хорошо известна благодаря Данте, но начало ее восходит к св. Павлу («videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem»[90]); затем ее развивали св. Иероним, Августин, Беда Достопочтенный, Иоганн Скот Эриугена, Гуго и Ришар Сен-Викторские, Алан Лилльский, Бонавентура, Фома Аквинский и другие – так что она стала центральной в средневековой поэтике. С точки зрения данной теории, любое произведение наделено некоторой «открытостью». Читатель текста знает, что каждое предложение и каждый троп «открыты» для разных смыслов, которые он, читатель, должен искать и находить. В зависимости от своего собственного состояния в данный конкретный момент читатель может выбрать один из возможных интерпретационных ключей – тот, который представляется ему подходящим для данного духовного состояния. Он, читатель, может использовать произведение согласно избранному смыслу (как бы призывая данное произведение к жизни заново, по-иному, не так, как это было при предшествующем чтении). Однако подобную «открытость» вовсе не следует понимать как «неопределенность» коммуникации, как «безграничность» возможностей формы и полную свободу восприятия. На самом деле речь идет о наборе жестко предустановленных и предписанных интерпретационных решений, которые никогда не позволят читателю выйти из-под строгого авторского контроля. Данте вкратце обрисовал данную ситуацию в своем тринадцатом письме[91]: