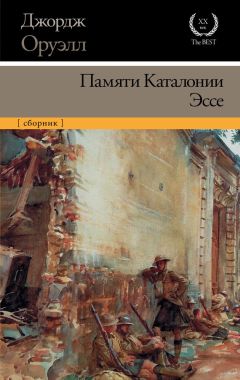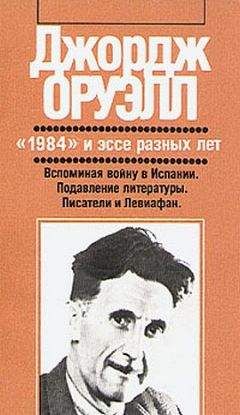Два англичанина слегли от солнечного удара. Самые яркие воспоминания этого времени: невыносимый дневной зной; мешки с песком, которые я таскал голый до пояса, натирая плечи, и так уже изрядно обгоревшие на солнце; наша ветхая одежда и ботинки-развалюхи; борьба с мулом, привозившим нам еду, – он не боялся ружейных пуль, но мигом обращался в бегство, услышав звук рвущейся шрапнели; москиты (только-только появившиеся) и крысы, ставшие настоящим бедствием, они пожирали даже кожаные пояса и патронные сумки. Ничего не происходило, если не считать случайных жертв от снайперской пули, случайных же залпов артиллерийского огня и воздушных налетов на Уэску. Теперь, когда деревья покрылись листвой, мы соорудили на ветвях тополей, растущих вдоль линии фронта, платформы для наших снайперов. На дальней стороне Уэски атаки понемногу стихали. Анархисты понесли тяжелые потери и не сумели полностью перекрыть дорогу на Хаку. Но им удалось расположиться вдоль дороги и, держа ее под пулеметным прицелом, не пропускать чужие машины. Однако фашисты воспользовались километровым прорывом в обороне и соорудили там полуподземную дорогу – что-то вроде огромной траншеи, по которой удавалось проскакивать грузовикам. По словам дезертиров, в Уэске было много боеприпасов, но очень мало продовольствия. Однако город не сдавался. Да и как его можно было взять, имея пятнадцатитысячную плохо вооруженную армию? Позже, в июне, правительственная коалиция перекинула часть войск с Мадридского фронта, сконцентрировав под Уэской тридцатитысячное войско и большое количество самолетов, но и тогда город взять не удалось.
Я отправился в отпуск, проведя на фронте сто пятнадцать дней, и тогда мне казалось, что проведенное там время – самое бесполезное время в моей жизни. Я вступил в ополчение, чтобы бороться с фашизмом, но то, что происходило до сих пор, вряд ли можно было так назвать: я просто существовал как пассивная единица и даже не отрабатывал положенное довольствие, только мучился от холода и недосыпа. Может, такова судьба многих солдат в большинстве войн. Но сейчас, оглядываясь назад, я уже не сожалею о потраченном времени. Конечно, хотелось бы принести испанскому правительству больше пользы, но с точки зрения моего собственного развития эти три или четыре месяца, проведенные на фронте, были не такими уж бесполезными. То была своеобразная пауза, очень отличавшаяся от всего прежнего в моей жизни и, возможно, от всего, что со мной еще произойдет. Это время научило меня вещам, которые я никогда не узнал бы другим путем.
Главное – все это время я находился в изоляции: на фронте практически все полностью изолированы от внешнего мира, даже о событиях в Барселоне мы имели лишь смутное представление, и это среди людей, которых можно в целом, хотя и не совсем точно, назвать революционерами. Во многом это было результатом системы ополчения, которая на Арагонском фронте не менялась кардинально до июня 1937 года. Рабочее ополчение, созданное на базе профсоюзов и объединившее людей приблизительно одинаковых политических убеждений, послужило тому, что в одном месте соединились самые революционные силы страны. По чистой случайности я оказался в единственном в Западной Европе объединении, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм представлялись более нормальными, чем прямо противоположные взгляды. Здесь, в Арагоне, я был одним из десятков тысяч людей, не всегда рабочего происхождения, и все они жили в одних условиях, на принципах равноправия. В теории это было полное равенство, но и на практике было почти так же. Было ощущение, что мы находимся в преддверии социализма, то есть, я хочу сказать, что мы жили в атмосфере социализма. Многие из обычных предпочтений так называемой цивилизованной жизни – снобизм, жажда наживы, страх перед хозяином и так далее – просто перестали существовать. Классовое деление общества полностью исчезло, а такое даже вообразить нельзя в пропитанном запахом денег воздухе Англии. Существовали только крестьяне и все остальные, и никто ни над кем не властвовал. Конечно, такое положение дел не могло долго продолжаться. Это был временный, местный эпизод в гигантской игре, охватившей весь земной шар. Но он продолжался достаточно долго и потому оказал влияние на всех участников. И те, кто в свое время ругал все подряд, позднее осознали, что присутствовали при чем-то удивительном и ценном. Мы находились в сообществе, где преобладала надежда, а не апатия или цинизм, а слово «товарищ» действительно говорило о духовном единстве, а не являлось пустым словом. Мы вдыхали воздух равенства. Я хорошо знаю, что сейчас принято отрицать, что социализм имеет что-либо общее с равенством. Теперь в каждой стране огромная армия партийных функционеров и лощеных профессоров-недоумков занята тем, что «доказывает»: социализм – не что иное, как плановый государственный капитализм, в котором жажда наживы по-прежнему сохраняется. К счастью, существует и другое представление о социализме. Идея равенства – вот пресловутая «мистика» социализма, притягивающая простых людей, которые готовы рисковать за эту идею жизнью; для большинства социализм означает бесклассовое общество, без этого социализма нет. Именно поэтому месяцы в ополчении так важны для меня. Ведь испанское ополчение, пока оно существовало, было своего рода бесклассовым обществом в миниатюре. В этом коллективе, где никто не старался пролезть вперед, во всем ощущался недостаток, зато не было ни привилегированных особей, ни подхалимов, у каждого было предчувствие, какими могут стать первые этапы социалистического общества. И это не разочаровывало меня, а, напротив, чрезвычайно привлекало. Больше, чем раньше, мне хотелось видеть торжество социализма. Частично это могло быть связано с тем, что мне повезло жить среди испанцев с их врожденной порядочностью и вечным анархистским душком – они могут, если у них будет шанс, сделать привлекательными даже начальные стадии социализма.
В то время я вряд ли осознавал, какие во мне свершаются перемены. Как и все остальные, я мучился от скуки, жары, холода, вшей, грязи, нехватки почти всего и время от времени – опасности. Сейчас все воспринимается иначе. Теперь время, казавшееся таким пустым и бедным на события, приобрело для меня большое значение. Оно настолько разительно отличается от остальной моей жизни, что обрело некое волшебное свойство, которым окрашены только давние воспоминания. То время было действительно трудным, но теперь оно дает богатую пищу для размышлений. Хотелось бы мне суметь передать атмосферу тех дней. Надеюсь, в какой-то степени я сделал это в первых главах книги. Та прошлая жизнь навсегда связана в моей памяти с зимним холодом, потрепанной формой ополченцев, продолговатыми испанскими лицами, похожим на морзянку постукиванием пулеметных очередей, запахом мочи и гнилого хлеба и металлическим привкусом бобовой похлебки, жадно пожираемой из грязных мисок.
Этот период помнится с удивительной отчетливостью. Мысленно я еще раз проживаю события, которые могут показаться слишком незначительными, чтобы их вспоминать. Вот я снова в блиндаже на Монте-Посеро, лежу на выступе известняка, служащего постелью, а рядом похрапывает молодой Рамон, уткнувшись носом мне в лопатки. А вот я, спотыкаясь, бреду по грязной траншее в тумане, окутавшем меня, как ледяной пар. Или ползу по склону горы и, стараясь удержать равновесие, хватаюсь за корень дикого розмарина. А высоко над головой посвистывают случайные пули.
Или лежу, укрывшись в молодом ельнике в низине к западу от Монте-Оскуро вместе с Коппом, Бобом Эдвардсом и тремя испанцами. Справа от нас по голому серому склону карабкаются цепочкой, как муравьи, фашисты. Совсем близко из фашистского лагеря звучит горн. Подмигнув мне, Копп при этих звуках совсем по-мальчишески показывает фашистам нос.
А вот я на замусоренном дворе Ла-Гранха в окружении мужчин, которые, расталкивая друг друга, пробиваются с жестяными мисками к котлу с рагу. Толстый усталый повар отгоняет их половником. Рядом за столом бородач с большим автоматическим пистолетом за поясом режет буханки хлеба на пять частей. А за мной кто-то поет на кокни (как оказалось, Билл Чэмберс, с которым я крепко поругался и который потом был убит под Уэской):
Повсюду крысы, крысы, крысы,
Большие, как коты…
С ревом пролетает снаряд. Пятнадцатилетние мальчишки кидаются ничком на землю. Повар прячется за котлом. Все поднимаются со смущенными лицами: снаряд упал и разорвался в ста метрах от нас.
Я патрулирую по обычному маршруту, надо мной склоняются темные ветви тополей. Рядом в канаве, полной воды, плещутся крысы, шума от них не меньше, чем от выдр. Когда по небу разливается золото рассвета, часовой-андалузец, прикрывшись плащом, заводит песню. А по другую сторону ничьей земли, в ста или двести метрах от нас, запевает фашистский часовой.