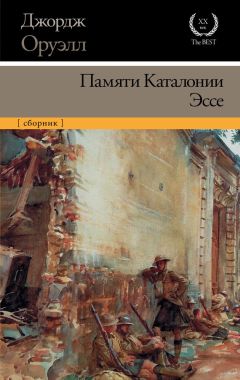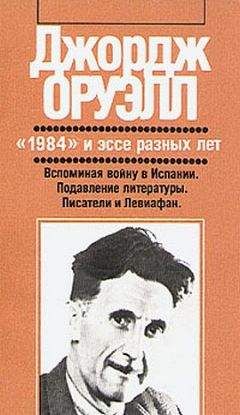Никогда не забуду бесконечный, кошмарный вечер, который мы провели за укреплением здания. Мы закрепили стальные шторы у главного входа и построили баррикаду из кирпичей, оставленных рабочими, которые занимались здесь какими-то переделками. Проверили наличие оружия. Вместе с теми шестью, что находились на крыше «Полиорамы», у нас была двадцать одна винтовка, из которых одна была негодной. К каждой винтовке прилагалось по пятьдесят патронов, было еще несколько десятков гранат, и больше ничего, кроме небольшого количества пистолетов и револьверов. Десяток бойцов, в основном немцы, вызвались, когда придет время, атаковать кафе «Мокка». Атаковать надо было с крыши на рассвете, чтобы застать жандармов врасплох. Их больше, но у нас сильнее боевой дух, и нам, без сомнения, удастся взять кафе приступом, хотя жертвы при этом неизбежны. В нашем штабе не было никакой еды, кроме нескольких плиток шоколада, кроме того, прошел слух, что «они» собираются отключить воду. (Никто не знал, кто такие «они». То ли правительство, контролирующее водоснабжение, то ли СНТ – непонятно.) Мы наполнили все тазы в туалетных комнатах, все ведра, которые нашли, и даже те пятнадцать бутылок из-под пива, которое жандармы подарили Коппу.
Я находился в отвратительном расположении духа и к тому же здорово устал, так как провел без сна почти шестьдесят часов. Была глубокая ночь. Люди, устроившись внизу у баррикад, спали на полу вповалку. Наверху нашлась небольшая комната с диваном, которую мы решили использовать как перевязочную, несмотря на то что во всем здании, разумеется, не нашлось ни йода, ни бинтов. Моя жена пришла из гостиницы на тот случай, если понадобится медсестра. Я лег на диван, чувствуя, что нужно хоть полчасика отдохнуть перед атакой, в которой меня вполне могли убить. Помню, как ужасно мешал пристегнутый к поясу пистолет, вонзавшийся в поясницу. Тем не менее я провалился в сон и проснулся словно от толчка. Рядом стояла жена. Комната была залита дневным светом. Ночью ничего не произошло. Правительство не объявило войну ПОУМ, воду не отключили, и вообще все было нормально, кроме единичных выстрелов на улице. Жена сказала, что ей было жалко меня будить, и она провела ночь в кресле.
Днем наступило нечто вроде перемирия. Стрельба прекратилась, и словно по мановению волшебного жезла улицы наполнились людьми. Некоторые магазины подняли шторы. На рынок повалил народ, жаждущий пропитания, но прилавки были почти пустые. Впрочем, трамваи не ходили, и это бросалось в глаза. Жандармы по-прежнему сидели, забаррикадировавшись, в кафе «Мокка», ни одна из сторон не разбирала укрепления. Люди бегали по улицам, пытаясь купить еду, и со всех сторон слышался один и тот же вопрос: «Вы думаете, это кончилось? Не начнется ли это снова?» К «этому» – боям – теперь относились как к неизбежному бедствию вроде урагана или землетрясения, от которого нельзя укрыться и которое нельзя остановить. И действительно, почти мгновенно – должно быть, прошло несколько часов, но передышка показалась минутой – словно обрушился июньский ливень, затрещали винтовки, и все разбежались. Опустились стальные шторы, улицы мигом опустели, бойцы вернулись на баррикады, и «это» снова завертелось…
Я вернулся на свой пост на крыше со смешанным чувством отвращения и ярости. Когда принимаешь участие в таких событиях, то в каком-то смысле творишь историю, но героической личностью себя никак не ощущаешь. Этого не происходит: повседневные, материальные вещи перевешивают все остальное. Во время боев мне никогда не удавалось «проанализировать» ситуацию, что с легкостью делали журналисты за сотни миль отсюда. В первую очередь я думал не о справедливости или несправедливости ничтожной междоусобной стычки, а о том, как скучно и неудобно сидеть на проклятой крыше, испытывая голод, который с каждой минутой усиливался: ведь никто из нас с понедельника толком не ел. Я думал только об одном: когда этот кошмар здесь закончится, сразу вернусь на фронт. Я был вне себя от ярости. Провести сто пятнадцать дней на передовой, вернуться в Барселону в надежде пусть и недолго, но с комфортом отдохнуть, а вместо этого торчать на крыше, следя за жандармами, которым вся эта история надоела не меньше, чем мне. Жандармы время от времени дружелюбно махали мне, уверяя, что они такие же «рабочие» (надеясь, что я не буду в них стрелять), но, без всяких сомнений, получив приказ, тут же открыли бы по мне огонь. Если так делается история, то в том нет никакой героики. Скорее это похоже на фронтовые будни, когда не хватает людей и приходится подолгу стоять в карауле. Никакого героизма – просто торчишь на посту, изнемогаешь от скуки, мечтаешь о том, чтобы наконец выспаться, и полностью теряешь интерес к происходящему.
Внутри гостиницы среди разношерстной толпы, из которой никто не осмеливался высунуть нос наружу, нарастала жуткая атмосфера подозрительности. У некоторых развилась шпиономания, и они слонялись по гостинице, нашептывая каждому на ухо, что этот тип – коммунистический агент, тот – троцкистский или анархистский или еще чей-то. Толстый русский шпион уводил иностранных беженцев по очереди в угол и доходчиво объяснял, что тут имеет место анархистский заговор. Я с интересом наблюдал за ним, потому что впервые встретил человека, если не считать журналистов, чьей профессией было распространение лжи. Было что-то отталкивающее в этой пародии на жизнь в шикарном отеле, которая проходит за спущенными шторами под грохот стрельбы. В парадную столовую через окно залетела пуля, отколола кусок колонны, и испуганные гости перебрались в темную комнату в глубине здания, где не всегда хватало столиков. Количество официантов сократилось – некоторые были членами СНТ и бастовали, сняв на время свои накрахмаленные сорочки, но обслуживание оставалось по-прежнему церемонным, хотя есть было практически нечего. Так в четверг на ужин каждому дали по одной сардине. Хлеба в гостинице не было уже несколько дней, вина тоже осталось мало, и нам приходилось пить все более и более старые вина по все большей цене. После окончания боев нехватка пищи сохранялась еще несколько дней. Помнится, три дня подряд мы с женой на завтрак съедали по небольшому кусочку овечьего сыра без хлеба и воды. Только апельсинов было много. Французские шоферы привезли их в гостиницу в большом количестве. Эти на вид крутые парни приводили с собой вульгарных испанских девиц и огромного грузчика в черной рубашке. В другое время управляющий отелем со снобистскими замашками сделал бы все, чтобы испортить им здесь пребывание, а скорее всего, даже просто отказался бы их впустить, но сейчас они в отличие от нас были желанными гостями с запасом хлеба, который мы у них выпрашивали.
Я провел еще одну ночь на крыше, а на следующий день все выглядело так, будто бои действительно прекратились. В этот день – была пятница – стреляли мало. Похоже, никто не знал наверняка, пришлют ли войска из Валенсии – кстати, вечером они вступили в город. По радио транслировались правительственные призывы, иногда в них звучали успокаивающие нотки, а иногда – угрожающие: всем приказывали разойтись по домам, а тем, кого после определенного часа поймают с оружием, грозили арестом. На правительственные речи особого внимания не обращали, но баррикады быстро опустели. Не сомневаюсь, в основном это было связано с нехваткой продовольствия. Всюду слышалось одно и то же: «Еды больше нет, пора возвращаться на работу». С другой стороны, жандармы, которые знали, что получат свой рацион, пока в городе еще есть какая-то провизия, оставались на своих постах. К середине дня город почти принял свой обычный вид, если не считать покинутых баррикад. На Рамблас толпился народ, магазины работали, и, что больше всего обнадеживало: трамваи, которые, казалось, уже вросли в землю, дернулись и покатили по рельсам. Жандармы по-прежнему занимали кафе «Мокка», баррикады они не разобрали, но некоторые из них вынесли стулья на улицу и сидели, держа винтовки на коленях. Проходя мимо, я подмигнул одному, и тот в ответ тоже дружелюбно улыбнулся – он, конечно, узнал меня. С крыши телефонной станции сняли анархистский флаг, теперь там развевался только каталонский. Это означало, что рабочие окончательно разбиты. Мне стало понятно – хотя из-за моего политического невежества не так ясно, как следовало бы, – что как только правительство почувствует себя увереннее, начнутся репрессии. Но тогда меня это не очень занимало. Я чувствовал глубокое облегчение от сознания, что проклятая стрельба закончилась и теперь можно купить какой-нибудь еды и перед возвращением на фронт насладиться мирным отдыхом.
Войска из Валенсии вошли в город, должно быть, поздним вечером. Это была ударная гвардия – формирование, подобное гражданской гвардии, карабинеры – части, предназначенные главным образом для полицейской работы, и отборные войска Республики. Они словно выросли из-под земли. На всех улицах появились патрули – группы из десяти высоких мужчин в серых или синих униформах, с длинными винтовками через плечо и с одним автоматом на группу. Нам же предстояло решить одну деликатную проблему. На крыше обсерватории остались шесть винтовок, с которыми дежурили наши часовые, требовалось любым способом доставить их в штаб ПОУМ. Как перенести оружие через улицу – вот в чем заключалась трудность. Винтовки были частью военного снаряжения ПОУМ, но, вынося их на улицу, мы нарушали приказ правительства и, пойманные с поличным, могли быть арестованы – хуже того, винтовки могли конфисковать. Имея в штабе всего двадцать одну винтовку, мы не могли потерять шесть из них. После долгой дискуссии, как лучше провернуть эту операцию, я и молодой рыжий испанец приступили к делу. От патруля ударной гвардии увернуться было не трудно, опасность представляли жандармы, засевшие в кафе: они прекрасно знали о винтовках на крыше обсерватории и могли сорвать всю операцию, если бы увидели нас с оружием на улице. Мы с испанцем частично разделись, повесили винтовки на левое плечо – приклад засунули под мышку, а дуло – в штанину. К сожалению, это были длинные «маузеры». Даже рослый человек вроде меня чувствует неудобство, когда такая винтовка прижата к его ноге. Спускаться по круговой лестнице с негнущейся левой ногой был сущий ад. Оказавшись на улице, мы поняли, что единственная возможность перейти на другую сторону – это двигаться как можно медленнее, чтобы не сгибать ноги в коленях. Кучка людей у кинотеатра с большим интересом смотрела, как я тащусь по улице с черепашьей скоростью. Позже я задавался вопросом: интересно, чем они объясняли мою странную походку? Наверное, ранением на войне. Во всяком случае, все винтовки были благополучно доставлены на место.