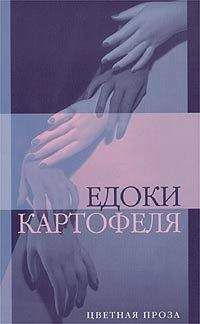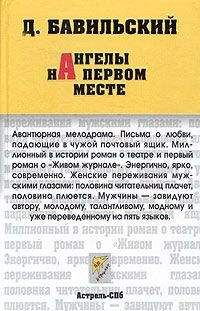Перед входом я озаботился букетом, который дежурная флористка выдавала по предварительной записи. Мне досталось что-то невообразимо длинное и бело-зеленое с мохнато-кучерявой травой — с чем я и промаялся всю церемонию, вспоминая киромуратовские «Чеховские мотивы», раз и навсегда закрывшие тему венчания.
Особенно колоритным мне показался помощник священника — пропитое лицо (фингал под глазом) резко контрастировало с праздничностью наряда и всеобщей благостностью. Второй помощник, толстячок, заинтересованно разглядывал гостей. Посмотреть действительно было на кого.
Среди гостей выделялась красивая английская пара с девочкой двух-трех лет. Пока родители занимались непонятными делами, дитя уселось на венчальный ковер посреди храма читать книжку с картинками. Позже, пока взрослые дарили подарки и отпускали голубей, девочка, воплощенная непосредственность, сосредоточенно разбиралась с лепестками роз. К ней постоянно обращались прихожане, тамада и приглашенный Эдуард Хиль. Но девочка не понимала, что от нее требуют эти странные русские, пугалась. И тогда все наперебой обращались к ней по-английски, мол, как тебя зовут и все такое.
Собор пропитался миром, ладаном и свечами. Великолепный хор и процедуры обряда (расшитые золотом хламиды, ненатуральные голоса, молоденькие березки около алтаря) обычно производят впечатление на жадного до экзотики человека. Жаль, что на месте, где произрастают верования, у меня дырка. Я стоял, фотографировал молодых и наблюдал за гостями. Кто-то истово крестился, кто-то так же истово сохранял независимый вид.
Долго ли, коротко, но все устали, особенно свидетели, синхронно менявшие быстро затекающие руки: венец оказался массивным.
— Держите венец за ушки, за ушки, — несколько раз повторил молодой священник, похожий на Бердяева: с аккуратно подстриженной бородкой и глазами усталого спаниеля. Ему очень хотелось, чтобы церемония прошла без накладок.
Наташу и Илью поводили по кругу, дали выпить вина. Потом выдали казенные кольца.
— Не бойтесь, — сказал священник, — потом мы дадим вам другие…
Гуров изо всех сил пытался соответствовать моменту и следовать рекомендациям попа.
— Креститесь, креститесь, — вкрадчиво инструктировал тот молодых и Илья, на котором фрак сидел как на корове седло (Илье больше подходит стиль «кэмел»), крестился неопытно и робко.
Зато Наталья чувствовала себя в своей стихии — о такой свадьбе девочки мечтают в раннем детстве, когда изображают невест в виде принцесс. Что ж, девичью мечту она осуществила. Имеет право.
Хотя бы и после шести лет жизни с Гуровым.
Когда таинство закончилось, гостей выгнали на пекло, так как первыми молодых должны поздравлять родители.
Все вышли, набрав в руки розовых лепестков. Когда Илья и Наташа появились на входе, все стали ликовать и кидать лепестками в молодых, выстроились в очередь, чтобы подарить цветы. Образовалась веселая, гомонящая куча-мала.
Я поздравил молодых едва ли не самым последним. Не знал, что сказать, да и понимал, что им сейчас не до слов — дотянуть бы до финала, но ребята держались мужественно, органично, всех одаривали улыбками и уместными репликами. Я подошел и сказал, что рад их поддержать, что после такой вампуки все у них должно сложиться очень серьезно, как у взрослых.
Тут подскочила суетливая распорядительница с ворохом белых коробок, из которых извлекли голубей. Родители взяли по птице, затем своих птиц взяли Наталья с Ильей. Птички взлетели; распорядительница начала пинать валявшиеся возле дверей кареты коробки, стараясь отбросить их как можно дальше в сторону.
Под приветственные крики повенчанные сели в карету и отчалили в сторону Екатерининского дворца.
Вечером, уже в неофициальной обстановке, новоиспеченный муж Илья Евгеньевич Гуров поведал мне, что путешествие в карете оказалось для него самым трудным испытанием свадебного марафона.
Изящная и изысканно оформленная карета внутри совершенно не оборудована. Заказывали по интернету и не смогли заглянуть в недра… Поэтому, несмотря на первоначальный план организаторов (Гуровы едут в карете до самой Камероновой галереи) молодожены вылезли из возка за ближайшим поворотом и пересели в иномарку. Думаю, на бронированный джип.
А мы сели в свой «мерседес», за которым потянулась кавалькада черных авто с тонированными гостями.
Когда отец первый раз привез меня в Питер, мы, разумеется, объехали с ним и пригороды тоже. Больше всех (таинственностью и замком, построенным из прессованной земли) меня волновала Гатчина. Как-то так получилось, что про нее, в отличие от Петергофа и даже Ломоносова, в Советском Союзе совершенно не было никакой информации. Ни одной книги или даже статьи: социализм медленно заболачивался, и отдельные застойные явления проникли в искусствоведение.
Я даже пытался взять своих родителей на слабо́, мол, не найти вам ни одного путеводителя (город же вне туристического охвата), не зная, что на день рождения меня уже ждет книжка с историей Гатчины. Родители вмастили мне с ней как никогда.
Кроме того, в Гатчине у нас нашлись дальние родственники со стороны мамы. У них мы с отцом и остановились. Старая семейная пара да их глухонемой сын, мгновенно завоевавший мое сердце пластинкой жевательной резинки «Пеперминт». С этим парнем (как же его звали? Эдик? Павлик? Взрослый, одинокий дядька, худой, даже слегка изможденный) мы обошли всю Гатчину (в Большом дворце тогда еще стояли токарные станки, мы видели их в окна первого этажа), а затем поехали в Петродворец. Долго ходили по парку и павильонам, потом зашли в ресторан, где папа решил притвориться глухонемым.
Папа почти мгновенно освоил азбуку глухонемых, вдвоем с Эдиком-Павликом они активно махали руками, а я, понимая, что «укорот» мне не грозит, пользовался моментом.
— Папа, хочу мороженого! — кричал я.
И мороженое приносили.
Потом, подмигивая и смеясь, отец пересказывал маме, что люди вокруг очень сочувствовали маленькому мальчику со звонким голоском, у которого (вот несчастье!) глухонемые родственники. Сам я этого не помню, знаю только по папиным рассказам. Как мама тогда смеялась! (Она не поехала с нами — моей младшей сестренке Лене было тогда всего полгода.)
Папа и Эдик-Павлик хорошо взяли на грудь, и тогда отец жестом попросил счет, а расплачиваясь, сдержанно и грустно сказал официанту «спасибо». Все делалось, конечно, именно ради этого судьбоносного момента. Официант вытаращил глаза…
Я этого совсем не помню.
Зато помню другое: как быстро наступил вечер, накрапывал мелкий дождик… Многочисленные туристы рассосались, и мы гуляли по парку перед самым его закрытием в полном одиночестве. Папа очень любит музыку из «Шербурских зонтиков», он пытается передать Эдику-Павлику красоту этой мелодии, начинает ее напевать. Мы спускаемся по лестнице главного каскада вниз.
Эдик-Павлик, разумеется, папу не слышит, но его душа, после опорожненного в ресторане графинчика, тоже поет, так же открыта и крылата, как эта просторная и великая архитектура. Он тоже начинает напевать что-то свое. Точнее, мычать. Тогда папа начинает петь еще громче, чтобы перекричать Эдика-Павлика. Пустой парк. Опресненное небо. Сюрреальная картина!
А на следующий день уже одни мы приезжаем с отцом в Царское Село, где Пушкин и пиршество барокко! И снова — парк, павильоны…
Мне особенно нравится классицистическая Камеронова галерея и висячий сад, через который она примыкает к дворцу. Слова «висячий сад» завораживают — и то, что «висячий» (на втором этаже) и то, что «сад» (райский уголок).
Я обожаю пространства «по краям», и на картинах художников Возрождения смотрю не сюжет, а пейзаж на втором плане (тогда в них знали толк). Изучая планы питерских пригородов, пропускаю основные дворцы, мне больше нравятся заброшенные павильоны (особенно славен ими чахоточный, сырой Павловск), конюшни и служебные постройки.
Поэтому Камеронова галерея изначально мой фаворит. Расстраиваюсь, что она закрыта, в нее не попасть. На странное это пространство можно смотреть только снизу и вместе со всеми.
Папа утешает тем, что завтра мы обязательно пойдем в Эрмитаж, где много странных, промежуточных пространств, переходов между отдельными зданиями, коридоров и тупиков.
Он не знает, что основательно проштудировав бедекер, я заранее полюбил «Галерею древней живописи», чахлый висячий сад (я разочарован) и лоджии Рафаэля, копирующие (больше всего увлекает борхесианский факт вторичности) помещения в Ватикане. И я соглашаюсь, забывая про неудачу с Камероновой галереей.