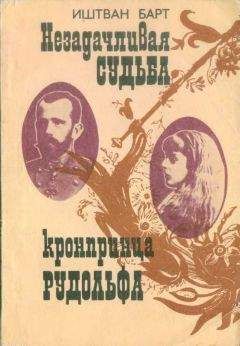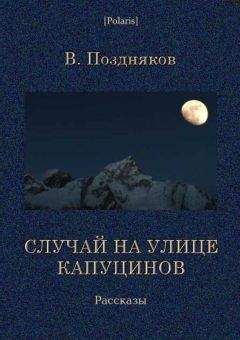Так или иначе, а первого февраля газеты снова вышли с жирно набранными заголовками: "Страшная правда". Мол, как ни прискорбно, первое сообщение основывалось на неверной информации ("Данные, опубликованные нами вчера о трагическом событии — кончине его императорского и королевского высочества, эрцгерцога и наследного принца Рудольфа, — основывались на первых впечатлениях лиц, близких высочайшему усопшему и тяжко омраченных роковой бедою. Когда близкие принцу люди взломали дверь спальни, они обнаружили его императорское и королевское высочество лежащим в постели без признаков жизни, и на этом первом впечатлении основывались потом поступившие в Вену сообщения, равно как и предположение, что смерть была вызвана разрывом сердца".); на самом деле наследник собственноручно покончил с собой под влиянием минутного умопомрачения. В подкрепление прилагалась и выдержка из протокола о вскрытии. Констатировать сей "факт" профессора медицины уже позволили себя уговорить, понимая, что иначе вряд ли удастся успокоить разбушевавшиеся светские и церковно-католические страсти (что, конечно, удалось лишь в малой степени — так страшно ненавидел клер усопшего), а потому даже попытались подкрепить свое утверждение научной эквилибристикой:
"Преждевременное сращение лобной и теменной костей, заметная глубина черепной ямки и явные пальцевидные углубления на внутренней поверхности черепных костей, явное сплющивание мозговых извилин и расширение мозжечка служат такими симптомами, которые, как правило, сопровождаются ненормальным душевным состоянием, а это дает основание предполагать, что поступок был совершен при помутнении рассудка".
Однако обнародование приблизительной правды скорее повредило, нежели помогло: двор окончательно утратил всяческое доверие. Какой же чудовищной может быть полная правда, если так страшна даже приоткрытая ее часть? К чему эти судорожные попытки (теперь усилия властей выглядели именно так) выдать случившееся за самоубийство? Ведь если трезвый государственный (католический) ум приемлет этот неприемлемый кошмар (что наследный милостию божией — принц совершил самоубийство), то этим наверняка пытаются замаскировать еще более страшную правду! Цензура считает народ глупее, а народ цензуру — хитрее; это неразрешимое противоречие и служит источником современных легенд. А между тем цензура уже отказалась почти от всяких маскировок и судорожно цепляется лишь за одну; ей всего-то и нужно (и взамен она выкладывает почти всю правду, но этого никто не знает, кроме нее) вычеркнуть из этой истории Марию Вечера. Но на этом она будет стоять упрямо и настырно до последней минуты своего существования: до 1918 года в странах австрийской империи и венгерского королевства нельзя было упоминать в печати ее имя. Однако венскому обывателю и завсегдатаю кафе ничего не стоит — вернее, всего лишь пятьдесят крейцеров за прокатное пользование — прочесть в немецких газетах, провозимых контрабандой невзирая на все усилия полиции, сенсационные разоблачения (ведь даже "Пештер Ллойд", ссылаясь на некую берлинскую газету, уже 4 февраля сообщала, что под Веной обнаружили мертвую баронессу Мери Вечера, любимицу столичного общества), и ему невдомек, что с истовым полицейским рвением от него скрывают лишь то, что знает всяк и каждый. Недоумевает венский обыватель и, естественно, строит подозрения. И тогда подавляемая официальными властями память о Рудольфе и Марии, как бы в подтверждение теории Зигмунда Фрейда (представление которого о складе человеческой души наверняка не случайно и кажется метафорой империи Франца Иосифа) становится вечно раздражающей, постыдной скверной в коллективном подсознании монархии (если таковое существует), вызывая кошмарные видения, она тревожит и без того неспокойный сон империи, пока после ее распада, став чуть ли не фантомом, предвестником роковой катастрофы, не выкристаллизуется в миф. Время хоть и постепенно, но вытолкнуло на поверхность истинную подоплеку майерлингских событий.
*
Графов Тааффе и Кальноки в столь неудачном решении вопроса оправдывает единственное обстоятельство: в тот момент, когда они готовили официальное сообщение, никто во всей Вене еще не знал, что и как произошло с Рудольфом. Конечно, за исключением репортера "Нойе Фрайе Прессе", но тут навсегда останется загадкой, откуда он получил достоверную информацию.
Первым курьером из Майерлинга, который располагал точными и определенными сведениями и мог бы вывести их из заблуждения (чтобы отрицать истину, надо ее знать), был доктор Видерхофер. Но он был подотчетен не премьер-министру, а императору, личным врачом которого состоял.
Император же не принял своего домашнего лекаря. Он никого не принимал. Ему хотелось побыть одному. Он трудился. То ли в знак покаяния, то ли для успокоения нервов — а может, из чувства долга? В правлении империей не должны возникать перебои ни при каких обстоятельствах. (Правление же — исключительно его дело и никому другому не может быть передоверено.) А уж особенно в такие критические моменты; тут следует проявить силу, ибо слабость может оказаться роковой. Император не имеет права быть слабым, император-отец народов. Он должен властвовать, принимать решения, и этот тяжкий удар своей неотвратимостью даже поможет решить затянувшиеся дела, ибо резко разграничивает важное и несущественное, а преодоление этого удара лишь закалит характер. И поскольку в таких случаях нельзя откладывать решения, в десять часов вечера направляется телеграмма Кальману Тисе, премьер-министру Венгрии: "Уличные беспорядки, в случае необходимости, подавить вооруженной силой. Дебаты о Проекте национальной обороны прекратить, не останавливаясь даже перед насилием". Франц Иосиф скорбит.
А доктору Видерхоферу императорский флигель-адъютант назначает для доклада аудиенцию на шесть утра. Врач в предписанном этикетом черном фраке к шести утра предстает перед своим повелителем и пациентом.
— Рассказывайте, я хочу все точно знать, — приказывает император и король. В его голосе ни малейшего признака волнения. Так ему повелевает его собственный образ: император неколебим. Этим своим качеством (уметь всегда оставаться императором) ему удавалось поддерживать удивление и восхищение среди своих подданных: император не такой, как прочие смертные.
Доктор Видерхофер начинает свой доклад так, как обычно поступают в таких случаях арачи: с утешения.
— Прежде всего смею заверить ваше величество, что его императорское высочество нисколько не мучился: выстрел привел к мгновенной смерти. Пуля попала точно в висок.
К величайшему удивлению доктора, Франц Иосиф вместо того, чтобы со свойственной ему сдержанностью выслушать отчет до конца, вдруг побагровел и напустился на своего домашнего врача, как на уличенного во лжи слугу:
— О какой это пуле вы тут говорите?
(Вопрос походя: кто мог слышать этот разговор? Во всяком случае, сведения о нем взяты из дневника принцессы Марии Валерии. Возможно, они и достоверны.)
— О той пуле, ваше величество, какою он застрелился, — пролепетал сбитый с толку врач; ему и в голову не приходило, что император все еще думает, будто его сына отравили.
— Что вы говорите? Выходит, он… застрелился? Это неправда! Ведь его отравили! Та женщина… она его отразила. Рудольф — и вдруг застрелился… Предупреждаю: зам придется доказать это свое утверждение!
И доктор Видерхофер вынужден изложить факты со всеми мельчайшими подробностями: о месте положения трупов, о зеркальце, которым воспользовался наследник для того, чтобы выстрел оказался точным, — Франц Иосиф слушает его, вроде бы вновь овладев собою (окаменев?). Но в следующий момент становится ясно, что он все же сломлен. Тогда-то и произносит он фразу — пренебрежительно? разочарованно? с горечью? печалью? — о том, что наследник умер, как портняжка-подмастерье. Такой удар даже для Франца Иосифа слишком силен. Его добила абсолютная бессмысленность смерти Рудольфа, ушедшего из жизни так не по-императорски. Этот последний жест сына больно задевает его. Ведь Иосиф понимает смысл такого жеста; знает, что адресован он ему — императору, идее.
Несколько собравшись с силами, он наверняка поинтересовался — робко? неуверенно? — оставил ли Рудольф прощальное письмо. Ведь самоубийцы всегда так поступают, не правда ли? — а судя по тому, что вы говорите, мой сын совершил самоубийство.
— Нет, письма он не оставил — во всяком случае, для вашего императорского величества, — тихим, убитым голосом отвечает доктор Видерхофер, если после этой волнующей сцены (он видел императора плачущим!) вообще отваживается отвечать. Допустимо ли — подданному видеть своего правителя в минуту слабости?!