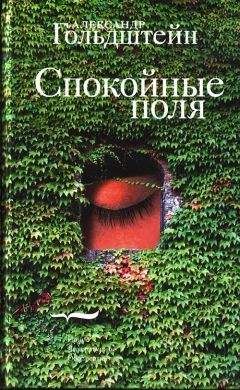Своеобразие смерти в том, что она распоряжается не только всеми видами истребления и натурального ухода, но поддерживает также социальное самообеспечение и обмен. В затерянных мирах это происходит с той нелицемерной наглядностью, что присуща лишь архаически-самодостаточным общежитиям, избавленным от проклятия благодарности белолицым наставникам. На востоке Эквадора обитают индейцы живарос, самое воинственное племя Южной Америки, обладающее избытком слабо заселенной территории. Ни государства, ни какой-либо иной политической организации у них нет; в мирное время они живут отдельными, разбросанными там и сям на большом удалении семьями под управленьем старейшин, но мирное время является невыносимым испытанием для живарос, стремящихся сократить промежутки меж войнами, которые сводятся к тому, что одна группа индейцев выслеживает другую, дабы с ней расквитаться. Живарос не верят в естественную смерть; если домочадец все-таки умирает, значит, его заколдовал враждебный ведун, и святая задача родственников погибшего — определить, кто именно наслал проклятие, и достойно отомстить чародею, ответив на убийство убийством. Как уже было сказано, семью, сплотившуюся для ведения боевых действий в военную стаю, отделяют от недругов изрядные расстояния, до злотворного колдуна с его бормотанием, воплем и пляской — не один день пути, и обязательная для родственников кровная месть «возможна лишь в том случае, если они сумеют отыскать врага. Следовательно, живарос ищут друг друга, чтобы мстить друг другу, и поэтому кровную месть можно считать формой социальной связи»: вне зоны отмщения они никогда бы не встретились. Узнав же, что походы эквадорианских индейцев служат исключительно целям разрушения, я проникся к ним сугубой симпатией, ибо, во-первых, волнует захватывающий максимализм этих пространственных изысканий, а во-вторых, со дна души всплыло воспоминание о ханжеской оторопи, коей сталинская послевоенная энциклопедия наук, искусств и ремесел сопроводила рассказ о набегах сельджуков, отличавшихся «варварскими опустошениями»: там, стало быть, тоже царило прекрасное истребительное неистовство, и вместо того, чтобы снаряжать в багрянородно-порфироносную ставку караваны с шелками, коврами и Приамовым золотом, воздух заволокли презрением — пожаром завоеванных супермаркетов.
Подводя итог важной для Канетти темы живарос, иллюстрирующей коммуникативную паутину смерти и строение тесной, закрытой толпы (воинской стаи), отметим, что истинная и выстраданная страсть индейского следопыта — это голова неприятеля: из похода следует вернуться по крайней мере с одним таким трофеем, который затем подвергается затейливым препарациям и усыхает до размеров среднего кулака. Особо удавшийся экземпляр воздвигается в сердце победного празднества, где бесслезные глазницы этой маленькой тыквы, уподобленной алтарю кровососущего капища, созерцают милитантные танцы, обрядовое опьянение, могучее поглощение пищи и вторым зрением молят о том, чтобы за их высохший взгляд в свой черед отомстили.
Уже беглый охват «Массы и власти» убеждает, что наукой здесь, к счастью, не пахнет — хоть один не захотел себе погребального полотна и повапленного гроба специальных жаргонов. Мыслей в книге уж как-нибудь больше, чем в табельных социоштудиях, а организация их иная, и порой мнится, будто взыскательную, но не педантичную понятийность положил под язык ритор старой, сдержанной выучки. Или скорее натурфилософ пополам с постюнгианским алхимиком, ибо толпа анализируется автором через живые стихии и геральдические эмблемы процессов, состояний и качеств. Масса и есть натура — природа, разъятая на первоэлементы. С лесом ее роднит медленное произрастание, застилающее солнце. Песок есть образ ее неисчислимости. Ветер имеет плотность дыхания и отдан духам, а также знаменам, с помощью которых народы обозначают воздух над собою как свою собственность. Море всеохватно и ненаполнимо, и в слове «океан», пишет Канетти, оно возводится в церемониальное достоинство — им намерена обладать толпа, жаждущая для себя всеобщего принципа. Кроме того, масса похожа на море непрерывностью своего голосового усилия, она шумит, как море, — неумолчно. Огонь повсюду равен себе и распространяет по земле всеуравнивающую справедливость, сжигая любой объект, что попадается ему на пути. Таковы избранные символы массы, в которой массовый человек находит отдохновенье от бесприютности и панических чувств, веющих на него из-под руки Неизвестности.
Нужно ли говорить, что тысяченачальник, господин этой массы, подобного утешенья лишен? Зная, чем чревато нисхождение в толпу без охраны и телесное растворение в ней, он не может избавиться от снедающего его, как любого другого, тактильного страха пред Неизвестным и потому обречен быть одиноким. Архетипический образ властителя — Минотавр в лабиринте своей безысходной неуязвимости, время от времени взрывающейся от вторженья в убежище конкурента с еще более чудовищным ликом. Но сама по себе власть есть попытка защититься от гибели, и ее центральный феномен являет собой триумф выжившего, который стоит над мертвым. В этом властитель стремится обрести компенсацию за свое одиночество. Вот лежит мертвый, и вот возвышается победитель, но убил он не столько соперника, сколько великое множество мертвецов, ибо его власть и жизнь зависят от приращения под ногами этой покойницкой массы. Как правильно заметил истолкователь, в подножии власти не стоят, а лежат толпы — толпы мертвых. Стоит только властитель, коего непрерывная эрегированность дублируется вертикалями статуй, дворцов и соборов, в которых тоже воплощается его государственная воля к могуществу и непреодоленная личная изоляция. «Вы одиноки в мире, огромная площадь тонет в беспредельном мраке ночи. Статуя — это ваш двойник, она двоится в ночи и отражается в ней. Вы одиноки, и ваше одиночество двоится» (Жан Жене или кто-то похожий).
Властитель надеется перехитрить свою смерть, однако даже ему неизвестно, откуда она может прийти. Чтобы ее избежать, он принимается убивать заранее, без разбора, и тем самым оказывается внутри апории, неразрешимость которой сводит его с ума. Действительно, чем больше реальных или воображаемых недругов он уничтожит, тем светлей станет пространство вокруг его тела, но тем большую ярость он возбудит в оставшихся, прежде чем успеет поселить в них любовь. Интеллектуальный долг властителя — выбрать: убивать ли противников стройными целесообразными кучками или пойти до конца и очутиться одному на земле, хоть и это сомнительно, потому что полет его, вероятней всего, будет оборван. Как правило, властитель остается в недоумении и уже не способен отличить громоздящуюся перед ним смерть от безутешности своей необеспеченной жизни.
Есть труды знаменитые и вместе с тем непрочитанные. Трактат Элиаса Канетти — из их числа. С момента его появления прошло 37 лет, а выводы «Массы и власти» пропущены мимо рассудка, и даже собранный в сочинении эмпирический материал не задержался на фильтре сознания тех, кто по роду занятий обязан внимательно перелистывать книги. Помню, как меня поразили восторги Мишеля Фуко по поводу иранской, под водительством аятолл, революции 1979 года, в которой, в отличие от других массовых возмущений, мыслитель прозрел беспрецедентную всеобщность народного выплеска, когда не отдельные, особо активные элементы толпы, но все населенье страны и столицы завалило своими телами династию Пехлеви. Как странно, думал я в замешательстве: ну ладно, его восхитила тотальность исламской манифестации, напророченной кумской сивиллой из своего авангардного прошлого, — и вправду ослепительно черное зрелище. Однако для Ирана нимало не уникальное, вопреки восклицаниям французского автора. Из плошки поденного варева трудно судить о столь хитрых материях, но хотелось бы знать, как удавалось Фуко сохранять медальный облик историка и философа, отстаивая неповторимость тегеранских пожарищ-79, если в столице шиитов и раньше десятки раз возгоралась точно такая же революция. Только имя у нее было не черное — красное: День Крови, десятый день траурного месяца мухаррам, алое цветение праздника бичующихся рыдальцев, поминовенье Хуссейна, убиенного внука Пророка. Канетти цитирует очевидца этого слезного исступления, ибо шииты — паломники плача, паладины мечты о глазах, непрерывно сочащихся влагой, и о сердце, истекающем кровью в память обезглавленного Хуссейна, могила которого в душе каждого верующего, в колыбели всех новорожденных: «500 000 человек, обуянных безумием, посыпают себе головы пеплом и бьются лбами о мостовые. Им хочется стать добровольными мучениками, изощренно калечить себя и убивать себя целыми толпами <…> Некоторые из них к вечеру умрут, многие будут изрезаны и покалечены, и белые рубахи, окрасившись кровью, превратятся в погребальные покровы. Они уже не принадлежат этой земле». Как легендарная карфагенская печь разжигала свою утробу младенцами, так иранская революция потому и заслужила прозвание традиционной, что жадно питалась традицией «плачевных и экстатических» действ — закавыченные эпитеты перехвачены безвозмездным ленд-лизом у Вячеслава Иванова, который в бакинскую свою бытность ласково углядел в щелочку тамошнего мухаррама местной выделки флагеллантов шахсея-вахсея («Горе, о горе, Хуссейн!») и завел их в подстрочное примечание к «Дионису и прадионисийству» — колониальным довеском к Загреевым, с размазанной кровью, рыдающим заголеньям под флейту, пляшущим песням козлов и к растерзанью увитого плющом божества, обреченного вернуться новым пьяным вином, процессией и дифирамбом. Шах Мохаммед Реза Пехлеви экстазы шиитов не жаловал, мухаррам недолюбливал, а стране желал осиянности воинской славой и нефтяными огнями зороастризма. Но плачевный перформанс прорвался наружу, и воистину надо было быть великим французским философом, чтобы не распознать в революции возобновления старого действа. Так, китайское буйство 60-х, может быть, означало восстание отреченных блуждающих снов даосизма против конфуцианского неподвижного почитанья чинов — называл же себя Мао одиноким монахом, бредущим под прохудившимся зонтиком сквозь непогоду.