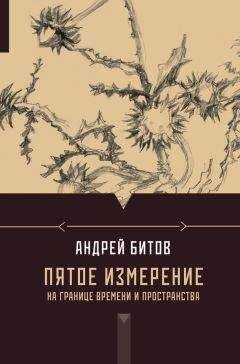Где поэзия? Где проза? Где граница?
Жизнь – поэзия – проза… вот три времени!
Я человек и народный: при Сталине я не знал ничего, кроме одного стихотворения, неизвестному мне лицу принадлежавшего; при Хрущеве я узнал все про то, чего не знал при Сталине; после советской власти (вот совпадение!) я попытался расплатиться с О. М. за все это, вернуть долг. Все это вместе – мое настоящее, то есть воспоминание.
В армии повели к зубному. Зубного не было. Усадив на лавку у дверей кабинета, старшина сказал: «Отдыхайте». И отошел по своим делам.
Не ждите, а отдыхайте.
И вот ни зубного, ни сопровождающего… С тех пор эта унылая стена и дверь на фоне зубной боли символизируют для меня понятие «отдых».
31 декабря 2000 года кончился, а 1 января 2001 года начался… Ничего не произошло.
Сменилась эпоха описания. Вы еще не прошлое, но уже не будущее.
Вы – настоящее.
Отдыхайте.
Тем не менее переход оказался ознаменован:
26 декабря 2000 года исполнилось 175 лет восстанию декабристов.
27 декабря – 62 года со дня смерти Осипа Мандельштама. 30 декабря – 20 лет со дня смерти Надежды Яковлевны Мандельштам.
5 января 2001 года – 50 лет со дня смерти Андрея Платонова.
15 января – 110 лет Осипу Мандельштаму.
16 января, отслужив все эти мессы, на ровном месте, в трезвом виде, среди бела дня я упал и сломал себе ребро… Вот я и в XXI веке!
Лежу под сугробом, отдыхаю… Кто время целовал в измученное темя, с сыновней нежностью потом он будет вспоминать, как спать ложилось время в сугроб пшеничный за окном…
Тот век окончательно кончился, этот – не начался.
28 января исполнилось 5 лет со дня смерти Иосифа… Помню, встретились мы с ним в 1971 году случайно на Невском. Погодка была… бабье лето…
Болтали о разнице поэзии и прозы. Кто из великих поэтов насколько ее понимал… На Пушкине сошлись, на Пастернаке разошлись. А вот что он сказал о Мандельштаме, не помню.
5 февраля с. г. в поезде Петербург – Москва снится мне сон. Будто я в некоем сером городе, но знаю, что это Воронеж; будто я в нем впервые, но знаю дорогу. Город спит. Я ложусь на одеяло около почтамта и начинаю ждать открытия.
Все пути ведут в Воронеж… Встречались ли Мандельштамы с Платоновыми?.. Перелистываю записную книжку в поисках воронежских телефонов: были же! Одна знакомая – у нее еще сын в Китае – перебралась сюда… Хао-хао… Халды-балды… У тебя телефонов моих номера…
Как только сажусь писать о Мандельштаме, у меня выгорает компьютер. Что в Москве, что в Питере. Каждый раз удается лишь заголовок. В Москве был «Выпрямительный вздох», в Питере – «Проза Музы, или Муза прозы». На какую-то не ту клавишу нажимаю…
От руки теперь что напишешь?.. Не стихи же!
Мандельштам, чеши собак! Я уже в Берлине. Здесь компьютер работает.
Здесь у меня на бумажке для табака, как на городском гербе Армавира, написано: Einer neuen Wahrheit ist nichts schadlicher als em alter Irrtum. Johann Wolfgang von Goethe, — не иначе как собака лает, ветер носит.
Перевод оказывается дословным: с языка Горнфельда на язык де Костера.
Мандельштам был смешлив и обидчив. Как ребенок. Палец покажи – уже хохочет, пальцем покажи – уже обидится. В «Четвертой прозе» он рассмеялся над своей обидой. Это и есть радость. Как свобода.
Мой отец до конца жизни брился бритвой «Жиллет». Берег и холил станок как личное оружие – продувал ствол, правил лезвие о ладонь. До сих пор в ушах этот шаркающий звук – ладонь суха и тепла, и кто-то дует в бутылку (не очень жалобно). Чехова и отца я люблю ровно и одинаково.
Мандельштама люблю отдельно.
Пластиночка бритвы «Жиллет» с чуть зазубренным косеньким краем… не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине… — Я перепечатывал этот текст с рассыпающейся рукописи, выданной мне на ночь под клятвенные заверения, и смеялся в голос. Радовался. Впервые радовался свободе.
(Было пето 1963 года, дача в Токсово, пишущая машинка Adler… Первая публикация «Четвертой прозы» произошла по-чешски с моей машинописи. Надеюсь, что в перевод вкрались мои опечатки.)
Почему, однако, четвертая? Гениальный писатель всегда себе что-нибудь да присвоит: Набоков – бабочку, Платонов – паровоз. Мандельштам присвоил себе числительное – заслуга несравненная! Каббалистическая.
Возможно, проще: в «Египетской марке» – три прозы. 1928 год: выход этой (последней) книги прозы О. М. и газетная дуэль с Горнфельдом, закончившаяся выстрелом в воздух «Четвертой прозой», предстали перед мысленным взором О. М. под одной обложкой, что могло и рассмешить его обиду: Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух.
Настоящий выстрел и настоящий воздух.
А вдруг не только поэтому? Люблю появление ткани, когда после двух или трех, а то – четырех задыханий придет выпрямительный вздох.
Опять – четыре. Впрочем, и строчек – четыре.
Поэту даруется дар, читателю – поэт. Как странно, как индивидуально поэт приходит к читателю! Вот мой частный (он же личный) пример.
1. Я краду книгу.
У моего дядьки – библиотека. Она не сожжена в блокаду. Он поощряет мою тягу к чтению. Сталин еще жив. Запрещенных книг у него нет, но неразрешенных – три шкафа. Стройные собрания сочинений: Мопассана и Мережковского, Блока и Джека Лондона. Я предпочитаю Джека: Смок Беллью – мой герой. Но есть и несколько случайных книг: так, мусор, декадентщина… «Весенний салон поэтов» (1918). Футуристическая обложка. 100 поэтов по алфавиту, от Адалис до Эренбурга. Маяковский, Есенин, Блок – Брюсов да еще блудница Ахматова… остальных даже не слышал: кто это – Цветаева, Ходасевич, Пастернак, Гумилев… Ивановы – братья? Кто мне сразу понравился, так это Ропшин (Савинков). И вдруг…
…«Господи!» – сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди… Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.
Евангелия в библиотеке у дядьки не было. Это была, пожалуй, запрещенная книга. И стихотворение Мандельштама стало моей первой молитвой.
Камень, отваленный от груди, – первый выпрямительный вздох.
2. Я дарю книгу.
…Одиссей возвратился, пространством и временем полный, — мой второй выпрямительный вздох: после «Tristia» мне уже не удалось почувствовать поэзию глубже. Я благополучно сбежал из Заполярья, из стройбата. Я был так влюблен, что подарил именно эту книгу… До сих пор жалею.
3. У меня крадут книгу.
В 1961 году я стал счастливым обладателем всех четырех номеров «Русского современника», лучшего толстого журнала всех времен.
Он открывался стихотворением О. М. «1 января 1924 года». То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш – и щучью косточку найдешь… Не пойму, чем так возмущали эти строчки Георгия Иванова – меня они привели в восторг, оголосовали. Слово гласность еще не существовало, но для меня произошло: третий выпрямительный… (Любопытно, что журнал этот пропал у меня в связи с гласностью: я предложил его как образчик для перестройки «Нового мира». Мне его не вернули.)
4. Мне дарят книгу.
Лето 1963 года, Таруса. Меня представили Надежде Яковлевне. Из ее рук я получил рукопись многострадального сборника О. М. Болтая ногами в речке, листаю «Воронежские тетради». После этого я готов от руки переписывать его тексты. «Четвертая проза» – четвертый выпрямительный. Вот мои четыре вдоха – по числу задыханий.
Не один я такой.
Мандельштама – любят. Не всенародной любовью, а – каждый.
Георгий Иванов обожает «Камень», беспокоится за судьбу поэта в «Tristia», находит беспредметным «1 января 1924 года» и лубочной «Армению».
Цветаева: «откуда такая нежность» – и «рву в клочки подлую книгу М-ма “Шум времени”».
Племя мандельштамоведов без наганов любит поэта робея, наконец, страшась такого вида собственности, как поэт.
Из стихов, посвященных ему после смерти, есть замечательные, по крайней мере два: Арсения Тарковского и Беллы Ахмадулиной. Белла в раю кормит О. М. огромным пирожным и плачет (а в стихах это вообще удивительно!).
В 1997 году во Владивостоке во дворе скульптора Валерия Ненаживина я столкнулся с самой невероятной историей такой любви.
Воспитанный на ненависти к монументальной пропаганде, я еще ни разу не любил памятника конкретному человеку, даже писателю, с трудом смиряясь лишь с андреевским Гоголем, да с Опекушиным (опека над Пушкиным), да с дедушкой Крыловым (по подсказке того же Мандельштама) в Летнем саду.
Здесь, в тесном дворике, в толпе пограничников и горнистов, я видел подлинного Мандельштама! Предсмертный, он вытянулся к квадратику неба, гордо, по-птичьи задрав свою птичью голову, поднеся задыхающуюся руку к замолкающему горлу. То самое пальто, те самые чуни… Он успевает сказать нам свое «прости». Невыносимо!