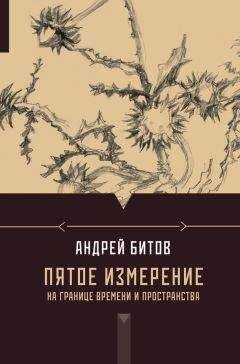– Там и власти, почитай, советской не было.
– А милиционер, однако, приехал. Вот что это такое?.. Не с этим ли мы имеем нынче дело, когда требуются инициатива, смелость, работоспособность, а предприимчивость у нас по-прежнему одна: зависть и желание укоротить всякого, кто отличается, – мол, не высовывайся, не при поперек народа, чем ты лучше других?
– Народ подменен, конечно, людьми бессовестными и дерзкими. И алчными.
– Это было с вами в сорок втором, а сейчас? Сейчас, когда народ нуждается в самом себе как никогда? Когда вот уже четыре года прошло нашего нового, обнадеживающего времени? Как он быстро отдалился – восемьдесят пятый… вот уже восемьдесят девятый на исходе. Четыре года – это уже история, и они могут стать упущенным временем. Что же теперь-то обеспечивает вашу, мою, нашу веру в себя, в народ, в будущее?
– Безвыходность.
– Кроме безвыходности?
– Безвыходность.
– Безвыходность нас заставляет верить?
– Да, заставляет. Да. Мы развязали языки, но это не значит, что мы развязали свободу деятельности человека, свободу избирать поле работы, которое он хочет. Создать ему другие условия – это ведь мы не торопимся сделать. И наоборот, чувствуется, что хочется будто новые одежки надеть, а сущность оставить ту же самую. Я не верю в плодотворность этих кустарных, маленьких, я бы сказал даже, отчасти лицемерных попыток возродить какую-то там аренду и так далее. Тут может быть только откровенное признание провала марксистских теорий, и надо переворачивать страницу. Надо опять переходить на испытанные хозяйственно-экономические структуры, которые позволяют и прогресс, и уравнивают до какой-то степени расположение людей. Во всяком случае, без этой нищеты и унижения в очередях, которые мы уже, слава богу, сколько лет терпим. Я думаю, это самое главное. Потому что нельзя больше, надо отказаться от попыток опять еще дальше говорить о каких-то плюсах социализма. Их нет нигде. Да и не было. Что такое социализм – никто даже по-настоящему сказать не может. Я объясняю так, что бедствия Первой мировой войны каким-то образом укрепили положение радикальных партий. И чем, так сказать, революционнее звучали призывы, тем они пользовались большей популярностью. Потому что лишения были велики, испытания невиданные, и люди перестали верить в существующие порядки. На Западе власть крайним партиям все-таки не дали. Там ведь были и Спартаки, восстания… Коммунисты, скажем, в той же Франции едва не подошли к власти, но потом от них отошли, а у нас на эту удочку клюнули. У них народ был просвещеннее, больше понимал, а главное, сильна очень была роль Церкви, Католической церкви. И безбожье не могло там так легко восторжествовать. У нас же именно из-за того, что народ был еще полуграмотен, что у нас Церковь тоже перестала пользоваться уважением и авторитетом, которые она растеряла за последние столетия, и клюнули на эти обещания: земля – ваша, и все другие лозунги…
(Мы углубились в дебри, я по неопытности не заметил, как у меня в очередной раз кончилась пленка. И на следующий день пришлось возвращаться на круги своя…)
– В том же эссе о пойнтерах… простите, Олег Васильевич, что я избегаю разговора о той книге, которую пытаюсь рекламировать. Все-таки застой стимулировал форму…
– Иносказание…
– Скажем так. Но на нескольких страницах о собачках, где ни слова нельзя было сказать ни о Сталине, ни об арестах, ни о лагерях, вам удалось сообщить необыкновенно много. Перечисляя «любимцев», начиная с Банзая, вы приходите вскоре к необыкновенно изящной мимоцензурной фразе, что-то вроде: «Но в двадцать седьмом году мои охоты вынужденно прекратились, и в течение тридцати лет я не имел возможности заводить собак».
– Не в двадцать седьмом, а в двадцать восьмом. Меня арестовали в феврале двадцать восьмого.
– Тоже подъехали на пролетке, если не ошибаюсь?
– Нет, это я ехал на пролетке, а они подъехали в «Эмке». Это было у греческого посольства. Я там подрабатывал переводами.
– Края сходятся. Вас арестовали за то же ваше богатство – за язык. Причем не за длинный, а за иностранный. За происхождение.
– Да, в общем, за это.
– Вы побывали на Соловках дважды – тогда и еще раз, уже в тридцать втором. Помню, когда я побывал на Соловках в восьмидесятом и рассказывал вам о впечатлениях, вы сказали, что никогда не навестите больше эти места… Не сможете…
– Год тому назад я был на Соловках. Меня пригласило телевидение, и я там был и показывал места, рассказывал о том, что и где запомнилось… но самое страшное место, которое я думал, что уцелело, не сохранилось. Потому что возле кремлевской стены, где происходил в двадцать девятом массовый расстрел, располагались монастырское еще, старинное, многовековое кладбище и церковь Святого Онуфрия – все это снесли, разровняли и построили тут какие-то бараки, какие-то дома. Так что самое-то место и не уцелело…
– Вас реабилитировали в пятьдесят шестом?
– Реабилитация пришла в пятьдесят пятом году, в один из весенних месяцев. Когда я вернулся в Москву, был май или июнь…
– Значит, получается двадцать восемь лет. На десять лет больше, чем у Монте-Кристо.
– Двадцать семь с месяцами. А может быть, чуть больше. Что это вы – то Робинзон, то Монте-Кристо?
– «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью…» Расскажите, пожалуйста, что было между сроками, в ссылках… Была передышка? Погулять на воле удавалось?
– Нет. Погулять не приходилось. Это только вначале…
– Между Соловками и Соловками? У Толстого?
– У Толстого, да. Это было самое мягкое, так сказать, время. С запретом жить в шести городах Союза. Я выбрал Тулу, там еще была Александра Львовна жива, и она меня действительно поселила в деревне, против пруда усадебного. Потом второй раз перерыв между лагерями и тюрьмами – был я сослан уже в Архангельск, – а уже потом пошли сплошняком. Уже лагеря. Впрочем, длительное время я был в ссылке красноярской, на Енисее, в селе Ярцево. Вот тут мои охотничьи познания и привычки помогли: я жил тем, что промышлял белку и ондатру. Мне далеко не сразу дали пользоваться ружьем, поэтому я охотился с капканами, с разными западнями хитрыми. А потом мне разрешили, и я уже нормально белковал и добывал ондатру.
– Это какие уже были годы?
– Послевоенные. Я досидел там до смерти Сталина, до пятьдесят третьего.
– И вам разрешили ружье?.. А помните уже наше с вами время, Олег Васильевич, лет этак через тридцать, восемьдесят третий, восемьдесят четвертый… когда у вас ружье отобрали?
– Да, это был какой-то отклик… Уже вжившись в спокойную свою, мирную московскую жизнь, я испытал такое очень неприятное чувство, когда ко мне пришла милиция и сказала, что ружье охотничье у меня… И у меня его отобрали. Сказали, что вышло постановление изъять оружие у всех сидевших. Я предъявил свои реабилитации… Это не произвело впечатления.
– После этого случая вы их застеклили? Знаю, вы канцелярию не любите, все ненужные бумажки рвете. Вот недавно билет из Швейцарии порвали, а он вам для отчета был нужен… А как-то прихожу к вам, может быть, это было ваше восьмидесятипятилетие, и вижу все ваши реабилитации в рамке, под стеклом, как в красном уголке, такая рамка…
– Да, это мне племянник к юбилею постарался…
– Как почетная грамота, как диплом – лагерные фотографии и реабилитации, штук шесть…
– Пять. Фотографии не помню, но там пять документов.
– Я думал, шесть…
– Пять. О реабилитации, да. Это была для самолюбия трудная история, но потом, поскольку сам начальник НКВД города Москвы извинялся передо мной и ружье мне принесли эти же милиционеры домой, то я, так сказать, подзабыл это, этот последний, так сказать, резонанс…
(Мне кажется, я точнее помню эту историю… Я никогда не видел Олега Васильевича таким, как в тот день, когда у него отняли ружье. Я могу лишь гадать, что значит оно для охотника, но символику этого оскорбления человеческого, мужского, дворянского наконец, достоинства представить себе нетрудно. Олег Васильевич тогда только что перенес тяжелую операцию и еще один раз в жизни выдюжил, выкарабкался. Но ходить ему еще было нельзя, а тут – ружье… и он пошел все к тому же «парадному подъезду», к начальству, какое у нас есть, в Союзе писателей. Для начальства это был приятный случай: не машина, не квартира, не дача – одно лишь проявление гуманности с возможностью употребить всех подчиненных по цепочке. О, эта гуманность, обеспеченная нашими необъятными залежами! – валюта начальства – можно не сделать что-либо, а «поправить ошибку». И возвращали ружье не совсем так, как обещали. Позвонили и сказали: «Заберите ваше ружье!» «Нет, голубчики, – сказал охотник Волков, – вы забирали, вы и принесите». В общем, не враз он его получил. Но раз «сам начальник НКВД», то что ж мелочиться – победная вышла история. Но и не такой уже первый или последний был этот резонанс былого.)
Одна из страшных вещей нашей – а может, и вообще – жизни, которую я лучше знаю, пока что глядя на других, а не на себя, это то, что мужество человеку требуется на протяжении всей жизни без передышки. Не бывает, не будет такого момента, что вот наконец кончено. И голод кончился, и война кончилась, кончились посадки, кончились смерти… В этот момент человек перестает ждать удара, и это момент, когда он, все выдержав, сдается – значит, выдержки не хватило. Вы прочтете в книге Волкова о доходягах 43-го года – Солженицын ссылается в «ГУЛАГе» на его рассказ. Это невозможно читать. Человек списан, как шлак, как ветошь, и свобода для него – смертный приговор. Не так это просто и когда вас наградят медалью «За трудовое отличие» или пригласят участвовать в субботнике… «Трудовое отличие я имею сполна, да и субботники ваши все уже отработал», – отрежет Олег Васильевич.