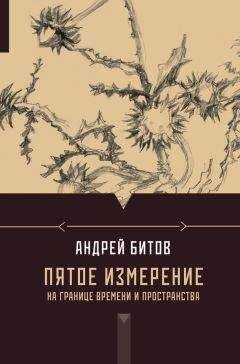В 1940 году он и его семья переехали в Америку, где он стал преподавать в Уэслианском колледже, в то же время занимаясь исследованиями по энтомологии в Гарварде. Позднее он был профессором русской литературы в Корнеллском университете в течение одиннадцати лет.
Лучшие из его рассказов собраны в “Набоковской дюжине”; их можно приобрести в серии “Пенгвин”, так же как и романы “Пнин”, “Смех во тьме”, “Истинная жизнь Себастьяна Найта”, и “Приглашение на казнь”, и “Говори, память”, автобиографию. Его другие романы – “Под знаком незаконнорожденных”, “Лолита”, по которому был снят фильм и который принес ему мировую славу, “Бледный огонь”, “Отчаяние” и, последний, “Король, дама, валет” (1968). Он также опубликовал переводы из Пушкина и Лермонтова и биографическое исследование о Гоголе.
Владимир Набоков, который сейчас проживает в Швейцарии, женат и имеет одного сына».
Я сознательно не совершенствую перевод (слово в слово), включаю даже неточности, – в своей лапидарности он наиболее выразителен.
Автор, даже Набоков, никогда не бывал главным в издательском деле. Переведем теперь это на русский язык.
На Западе биографии писателей после смерти не меняются. Вырос лишь перечень книг, вышедших в этой серии, да последняя строчка… Не живет, а умер.
Владимир Владимирович Набоков умер в Швейцарии, в городке Монтре, 2 июля 1977 года. Как не преминули отметить «набоковисты», В. В. похоронен в Веве 7.7.77, будто это именно им был послан последний привет великого мастера литературной игры. И впрямь семерка – коса – означает иной раз «смерть» в домашних, дачных карточных гаданиях.
Родился же Владимир Набоков в С.-Петербурге все-таки в 1899 году. «Либеральный деятель» в переводе на русский означает член I Государственной думы от кадетской партии, впоследствии управляющий делами Временного правительства. В этом качестве он имел отношение и к отречению Николая II. Семейству Набоковых принадлежал также один из первых автомобилей в Петербурге – одно из богатейших семейств… Владимир Дмитриевич был англоман: в английском магазине покупались все дорогие и модные новинки, как, например, походные надувные ванны, не говоря о ракетках, велосипедах и прочем спортивном инвентаре, включая сачки для бабочек.
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный…
Все это прекрасно описано самим Набоковым в «Других берегах». И это немаловажно отметить: еще одна черта его образования как прозаика. Ибо мир вещей, привычный ему с детства как данность, никогда не поразит его в Европе, никогда не станет предметом переживаний неимущего (нищего по сравнению с дореволюционной жизнью), зато вещи как деталь описания, как изделие будут подвластны ему в той же степени, как и мастеру, их изготовившему. Читая, вы будете ощущать эти предметы на ощупь, даже не имея ранее о них никакого представления. Чего стоят хотя бы сетования Набокова в послесловии к русской «Лолите» о невозможности перевода спортивных терминов на родной язык:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет…
«Евгений Онегин» тут тоже при чем. В конце концов, «философом в осьмнадцать лет» Владимир встретит русскую революцию на сто лет позже Евгения. Соотношения и тайные соответствия с Онегиным протянутся через всю его жизнь, особенно выявившись в его позднем иноязычном творчестве (не говоря о четырехтомном комментированном издании перевода пушкинского романа на английский).
Набоков сам называл себя английским ребенком – у него, ясное дело, была своя англичанка, и ее язык сопутствовал ему с младенчества, как и язык матери. Французским он владел столь же свободно. Так что все три языка он вывез еще из России пригодными как для общения, так и для писания. И этого барьера, уже не имущественного, а языкового, преодолевать ему не пришлось.
И все свои хобби – бабочки, шахматы, спорт – Набоков также вывез из Петербурга, из России, из своего детства.
Он вывез детство и юность, счастливые, как у принца, первые стихи, первую любовь… Дом в Петербурге на Морской, усадьбу в Рождествене под Петербургом, лето в Ялте… Весь этот импорт мы обнаружим позднее в его прозе: рассказы «Обида», «Лебеда», «Совершенство», повесть «Другие берега» и… повсюду.
Он отбыл из России с родителями, из того же Крыма, в апреле 1919-го, двадцати лет от роду – навсегда. Та жизнь кончилась с внезапностью то ли несчастного случая, то ли убийства. Новую он, кажется, никогда не начинал. Она – в книгах.
Набоков не эмигрант. (Боже упаси! я не хочу оправдать его таким образом ни в чьих глазах…) Это его судьба. Но и не только. Судьба есть линия одной жизни, как угодно ломанная, под каким угодно, хоть острым, хоть обратным, углом продолжения. У Набокова это послесмертие. В послесмертии уже не живут, а присутствуют, никем не замеченные, и всё видят. Сам переход от жизни к смерти у Набокова всегда переход от чувства, достаточно слепого и бедного деталью, к зрению, ею загроможденному и перенасыщенному.
Сама смерть легка, даже забавна. Смешно, что человек никогда не узнает, что умер.
Не так ли молодой влюбленный никогда не узнает, что невеста ушла от него, потому что попадает под трамвай (рассказ «Катастрофа»)? Не так ли Картофельный Эльф умрет, так и не узнав, что его внезапно обретенный сын уже мертв? Это даже счастье, а не смерть. Один рассказ даже так и назван – «Совершенство», о том, как учитель утонул, спасая ученика, тайно оповещенный в секунду смерти, что тот не умер. Не так ли Смуров удивится после самоубийства силе мертвого воображения, воссоздающего покинутый мир с полнотою и точностью самой жизни (повесть «Соглядатай»)? И кто стал прозрачным, мир или Смуров? Кто кого не замечает? Непрозрачным станет Цинциннат в «Приглашении на казнь», но это уже приговор…
«Есть острая забава в том, чтобы, оглядываясь на прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы… заменять одну случайность другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, прошедшей незаметно и бесплодно, вырастает дивное розовое событие, которое в свое время так и не вылупилось, не просияло. Таинственная эта ветвистость жизни: в каждом былом мгновении чувствуется распутие – было так, а могло бы быть иначе, – и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извилины по темному полю прошлого» («Соглядатай»).
Что было бы, если бы?.. Если бы Сиваш, скажем, не подсох в 1920-м? Что было бы, если бы красные не пересилили белых и была бы непонятная, послевоенная, послереволюционная Россия, вяло переползающая в буржуазную республику, понемножку теряющая свои имперские очертания и обретающая исконные? Не знаю, что было бы. Вариантов у Истории не бывает. Есть единственный, которого мы не постигаем. Что было бы?.. Да не было бы деления на литературу советскую и эмигрантскую хотя бы. Эмигрантская не замерла бы в бесконечной ностальгии, а советской бы не было (а жаль! какая такая литература без Платонова и Мандельштама…).
Какой могла бы быть русская литература после Чехова и Блока, после Серебряного века и символистов, непрерывная, непрерванная?
Набоков и есть отсаженная ветвь той гипотетической литературы, проросшая сквозь культуру в цивилизацию.
Поэтому русская литература после 1917-го делится на советскую, эмигрантскую и… Набокова (я их не выравниваю и не сравниваю, тоже боже упаси…).
Налегке, с шахматной доской и сачком под мышкой, Набоков вывез из России самый большой багаж – нетронутую ни зрелым опытом, ни писательским отражением нераспечатанную юность, непочатый элементарный опыт бытия.
Все это позволило ему не стать эмигрантом.
Из России он прибыл в Англию, с детства привычную, хотя бы и непосещенную страну, чтобы как бы продолжить (после Тенишевского училища) образование. В Кембридже (которому он посвятил дивные страницы в «Подвиге» и «Других берегах») он в белой рубашке апаш ловил бабочек, играл в теннис, греб на лодке по каналам и изучал, как сказано выше, романские и славянские языки (учиться ему было как бы и нечему, и учение, надо полагать, давалось ему легко). Он окончил Кембридж за три года. Лет этак через шестьдесят шесть мне довелось посетить те же места. Тамошний русист с гордостью сообщил мне, что вычислил по набоковским описаниям квартиру, в которой тот жил. Он показал мне окна на третьем этаже, возможно, те самые. Дом был серый, даже черный для Кембриджа, и невзрачный. Сердце мое не забилось. Равнодушно я опустил глаза, чтобы увидеть в витрине первого этажа перекрещенные две ракетки с теннисными же рассыпанными мячиками. Привет от Лолиты!.. Ее герб. Порадовавшись чисто набоковскому намеку, мы с русистом заглянули и в колледж по соседству, в котором один когда-то учился, а другой нынче преподавал. Какое счастье – средневековые эти дворы, с их газонами (теми самыми, про которые каждый русский знает, сколько им лет) и фонтанами!
Этот был поменьше, зато куда ярче прочих. Такого буйного и яркого соединения цветов (как растений, так и красок) мне еще не доводилось видеть. Я подумал с неудовольствием, что студент Набоков уж точно знал имя каждого цветка. Цветы были так красивы, что, как и газоны, росли триста лет. Такими же их видел Набоков, годившийся мне теперь в сыновья, их посеяли при Ньютоне. Но и это нет, цветы были прихотью сторожа колледжа, явно при Набокове еще не служившего. Нас обогнал бодрый и древний старик, и я еще понадеялся, что этот мог бы быть сторожем при Набокове. Но и это нет. Как пояснил мне русист, это был старейший профессор Кембриджа, лет около ста, преподающий здесь лет более семидесяти. Нет, Набоков таки не любовался теми же цветами!