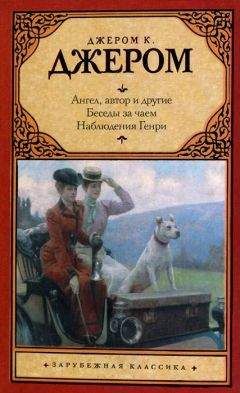— Вы хотели сказать, обойдется ее отцу, — поправил меня малоизвестный поэт. — В Европе муж требует приданое за своей женой и, судя по всему, получает его. Сам он, в свою очередь, должен годами экономить и копить, чтобы обеспечить приданым каждую из дочерей. Понятно, о чем тут речь. Вы хотите сказать, что женщина наравне с мужчиной может служить источником богатства. Это так, но богатство женщины — неизменно результат замужества, то ли ее самой, то ли кого из практичных прародительниц. Когда же мы говорим о наследнице, принцип купли-продажи, если вы простите мне использование таких вульгарных терминов, проводится в жизнь еще более скрупулезно. Не так уж часто наследницу просто отдают; иногда ее даже крадут, к негодованию лорд-канцлеров и прочих хранителей такой собственности; вора должным образом наказывают, вплоть до тюремного заключения, если возникает такая необходимость. Если наследницу выдают замуж с соблюдением всех формальностей, ее цена четко оговаривается, и не обязательно в деньгах, благо их у нее и так хватает. Деньги позволяют ей выторговывать для своих детей нечто не менее ценное, скажем, титул или положение в обществе. Примерно так же женщина эпохи неолита, сама исключительно сильная и жестокая, могла позволить себе мысль о красоте своего пещерного возлюбленного, о доисторическом очаровании его манер. И таким образом способствовала природе в развитии вида.
— Не могу с вами спорить, — вздохнула старая дева. — Но я знала одну пару: они оба были бедны. Однако для нее это значения не имело, а вот он очень переживал. Возможно, я не права, но мне представляется, что наши инстинкты, как вы и сказали, дарованы нам, чтобы нас направлять. Не знаю, но мне кажется, что будущее не в наших руках. Оно нам не принадлежит. Возможно, мудрее прислушиваться к голосам, которые звучат внутри нас.
— Я тоже помню один случай, — сказала светская дама. Она поднялась, чтобы разлить чай, и повернулась к нам спиной. — Как и молодая женщина, о которой вы упомянули, эта девушка была бедна. И мне редко встречались такие очаровательные существа. Не могу не думать о том, сколько пользы она принесла бы миру, став матерью!
— Моя дорогая, как же вы мне помогаете! — воскликнул малоизвестный поэт.
— Если вас послушать, я только это и делаю, — рассмеялась светская дама. — Я начинаю напоминать быка, который забросил маленького мальчика на яблоню, куда он весь день пытался вскарабкаться.
— Это так мило с вашей стороны, — ответил малоизвестный поэт. — Я считаю, что женщина имеет право рассматривать замужество как цель своего существования, а мужчина в этом случае — всего лишь средство. Женщина, о которой вы говорили, повела себя эгоистично, отвергнув корону материнства, потому что ее предлагалось взять не из избранных ею рук.
— Вы бы предпочли, чтобы мы выходили замуж не по любви? — спросила выпускница Гертона.
— По любви, если возможно, — ответил малоизвестный поэт. — И без любви, если альтернатива — совсем не выходить замуж. Это исполнение закона природы.
— Вы видите в нас товар и движимое имущество! — воскликнула выпускница Гертона.
— Я вижу в вас жриц храма Природы, приобщающих мужчину к обожанию ее таинств. Какой-то американский юморист написал, что женитьба — стремление некоего молодого мужчины оплатить стол и кров некоей молодой женщине. От этого определения уйти невозможно. Давайте его примем. Это прекрасно, если встать на позицию молодого мужчины. Он жертвует собой, чего-то лишает себя, он может отдавать. Это любовь. А как это выглядит с позиции женщины? Если она берет, думая только о себе, тогда с ее стороны это дурно пахнущая сделка. Чтобы понять ее, чтобы отнестись к ней по справедливости, мы должны заглянуть глубже. Ее королевство не сексуальная, а материнская любовь. Она отдает себя не своему избраннику, но через этого избранника — великой богине мириада грудей, которая своими крылами укрывает Жизнь, оберегая ее от протянутой руки Смерти.
— Она, возможно, и очень милая девушка с точки зрения природы, — поджала губы старая дева, — но лично мне она никогда не понравится.
— Который час? — спросила выпускница Гертона.
Я взглянул на часы:
— Двадцать минут пятого.
— Точно? — спросила выпускница Гертона.
— Абсолютно, — ответил я.
— Странно, — пробормотала она. — Этому нет объяснения, но всегда получается именно так.
— Чему нет объяснения? — спросил я. — Что странно?
— Это немецкое суеверие, — объяснила выпускница Гертона. — Я узнала о нем, когда училась. Если в любой компании над столом повисает полная тишина, происходит это всегда в двадцать минут какого-то часа.
— Почему мы так много говорим? — пожелал знать малоизвестный поэт.
— Если на то пошло, — указала светская дама, — я не думаю, что мы — лично мы — много говорим. По большей части мы слушаем вас.
— Тогда почему я много говорю, если вы предпочитаете такой вариант? — продолжил малоизвестный поэт. — Если бы я говорил меньше, кому-то из вас пришлось бы говорить больше.
— Кто-нибудь воспользовался бы предоставленным шансом, — согласился философ.
— Вероятнее всего вы, — повернулся к нему малоизвестный поэт. — Потеряло бы или приобрело от этого наше приятное времяпрепровождение, не мне судить, хотя мнение на этот счет у меня есть. Главное, чтобы поток разговора не прерывался. Ведь так?
— У меня есть один знакомый, его фамилия Лонгруш, — начал я свой рассказ. — Возможно, вы тоже его знаете. Он не совсем зануда. Зануда ожидает, что вы будете его слушать. Этому человеку совершенно без разницы, слушаете вы его или нет. Он не дурак. Дурак иной раз забавен, Лонгруш — никогда. Он знает все, какой бы ни была тема, ему всегда есть что сказать. Он говорит, как шарманка перетирает музыку: монотонно, уверенно, без устали. Начинает, как только вы встаете или садитесь рядом с ним, вещает без перерыва, пока не уезжает в кебе или омнибусе к следующей своей остановке. Как и в случае с его прототипом, валик с шипами-кулачками меняется примерно раз в месяц, чтобы соответствовать текущей моде. В январе он повторяет вам шутки Дэна Лено или знакомит с мнением других людей о картинах старых мастеров в Гилдхолле. В июне пространно делится мыслями на предмет Академии или соглашается с тем, что большинство людей по большей части говорят об опере. Если на мгновение забыть, — для англичан это простительно — зима сейчас или лето, для того, чтобы вспомнить, достаточно дождаться, пока Лонгруш с энтузиазмом заговорит о крикете или футболе. Он всегда в курсе последних событий. Новая постановка Шекспира, самый свежий скандал, человек часа, важнейшее событие ближайших семи дней — Лонгруш готовит свой валик с вечера. Когда я только начинал работать журналистом, мне приходилось каждый вечер писать для провинциальной ежедневной газеты колонку, которая называлась «Что говорят люди?». От редактора я получил четкие инструкции. «Мне не нужно ваше мнение; я не хочу, чтобы вы упражнялись в остроумии; не важно, находите ли вы в этом что-то интересное или нет. Мне нужна полная достоверность, я хочу знать, что говорят люди». Я попытался отнестись к заданию добросовестно. Сохранял все слова-паразиты. Я писал эту колонку, потому что нуждался в тридцати шиллингах. Почему кто-то ее читал, мне непонятно и по сей день, но, насколько мне известно, колонка считалась одним из самых популярных материалов газеты. Лонгруш неизменно вызывает у меня воспоминания о тех долгих часах, которые я провел над той глупой колонкой.
— Кажется, я знаю человека, о котором вы говорите, — кивнул философ. — Просто забыл его фамилию.
— Я подумал, что вы могли с ним встречаться, — ответил я. — На днях моя кузина Эдит устраивала званый обед и, как обычно, оказала мне честь, обратившись за советом. По большому счету, нынче я советов не даю. А в молодости так ими и сыпал. Но с тех пор пришел к выводу, что достаточно нести ответственность и за собственные ошибки и глупости. Однако для Эдит я делаю исключение, зная, что она никогда моему совету не последует.
— Если говорить о редакторах, — заметил философ, — на днях в клубе Бейтс сказал мне, что перестал лично писать в колонку «Ответы читателям» после того, как выяснилось, что достаточно долго дискутировал на столь привлекательную тему, как «Обязанности отца», с собственной женой, известной своими юмористическими произведениями.
— Моя мать рассказывала мне о жене священника, — поделилась своими воспоминаниями светская дама, — которая хранила копии проповедей мужа. Зачитывала ему отрывки из них в постели, вместо того чтобы что-то выговаривать. Объясняла, что так ей проще. Все, что она считала необходимым ему сказать, он уже говорил сам, причем более убедительно.
— Аргумент, который всегда кажется мне слабым, — указал философ. — Если бы проповедовать могло только совершенство, наши кафедры оставались бы пустыми. Разве я могу игнорировать умиротворение, которое растекается по моей душе при внимательном чтении псалмов, или отрицать пользу, которую приносит мне мудрость Притчей, потому что ни Давид, ни Соломон не были достойной оправой драгоценных камней, вложенных в них Господом? Лектор, рассказывающий о вреде алкоголя, никогда не должен цитировать самопорицания бедного Кассио только потому, что мастер Уилл Шекспир — и тому есть доказательства — слишком уж любил выпить? Человек, который бьет в барабан, может быть трусом, но для нас важен барабан, а не барабанщик.