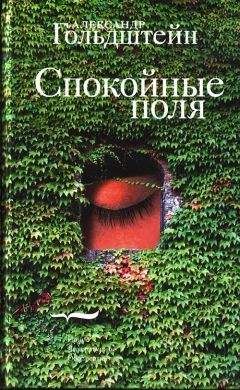Правда, учитель писал ярче, острее, да и мыслил парадоксальнее. Он однажды усмехнулся в варшавской газете, комментируя уличное происшествие, — какой-то хам, кажется, офицер, толкнул в лужу старушку.
Оно, конечно, нехорошо старушек толкать, согласился философ. Ну, а вот установите вы свой земной рай, господа социалисты, свою казарму и смертную скуку. Ходить у вас будут по струнке, и на старушку никто не покусится. Нет уж, пусть ее лучше толкают и дальше, но чтобы только без вашей казармы и смертной тоски…
Зададим напоследок риторический вопрос и сами на него ответим. Что же останется от Льва Гумилева, если он и науки всамделишной не создавал, и мифологической цельности в своих не очень самостоятельных построениях не достиг, а, эклектически скрещивая науку с мифом, породил столько противоречий, что все рассыпается от легкого прикосновения? То и останется — художественный образ человека, «образ автора». Раздавленный «вампирическими громадами диктатур» XX столетия, пленник советской лагерной всеобщности, Гумилев сумел реализовать свое предназначение, сумел высвободить несомненно присущую ему пассионарность и создать «страстный» и тотальный текст, где воля перемешалась с тюремной неволей, а «истина» — с «ложью». Лучше, однако, воспринимать такой текст эстетически. Он это позволяет, что, согласитесь, не так уж мало.
26. 08. 93МАСТЕР ЖИЗНИ НА ИСХОДЕ ДНЯ
Вот-вот должно свершиться.
Едет, доносится, едет. И дом поспевает в отмеренных сроках, за малостью дело осталось: то ли оборудование для подпольной типографии в погреб не завезли, то ли резной конек на крыше по забывчивости не укрепили.
Я нарочно с первых же нехитрых строк выбрал этот глумливый тон — пусть читатель узнает, как сегодня в России пишут о неминуемом возвращении патриарха, о грядущем явлении тринадцатого, со всех сторон потайного имама, махди, повелителя утраченного времени национальной истории. И если степенный Владимир Солоухин, недавний адепт, всего лишь этнографически окает, недоброжелательно перекатывая речь на среднерусских колесиках своей излюбленной гласной (оно, конечно, хорошо, что пожалует, да только роли сыграть не сможет), то филолог Григорий Амелин уж совсем не миндальничает: «Многотомный до грыжи, с голливудской бородой и начищенной до немыслимого блеска совестью, он является в Россию праздничный, как Первомай, и, как он же, безбожно устаревший. Протопоп Аввакум для курехинской поп-механики. В матрешечной Москве он будет встречен как полубог, вермонтский Вольтер. А кому он, в сущности, нужен? Да никому. Возвращение живых мощей в мавзолей всея Руси. Чинно, скучно. Ему бы бежать из Ясной Поляны собственного хрестоматийного гения, а он возвращается на осляти — безжизненный, загробно-американский, давно уже ничего не понимающий ни в России, ни в Западе. Из Америки — да в хармсовский анекдот. Он — евнух своей славы… Солженицын — это перезрелый Лимонов. Ну не разнятся же они, ей-богу, тем, что один пишет о том, как он занимается сексом, а другой — обо всем, кроме этого. Сходства между ними сейчас больше, чем различия. К примеру, Лимонов — это как бы Достоевский-сладострастник, а Александр Исаевич — Достоевский-художник, учитель».
Достоевский здесь совершенно ни при чем, а сравнение с Лимоновым интересно, но только Амелин не догадался, какие великолепные возможности оно открывает, о чем немного позже. А пока отметим, что оба знаменитых героя в самом деле частенько оказываются рядом, да к тому же в сексуально окрашенных контекстах. Если Солженицын брезгливо, дабы не замараться ненароком, распекал охальника Эдичку за поругание нравственных святынь русской словесности, как если бы речь шла о растлении несовершеннолетней, то для Лимонова великий Солж знаменовал своей неподъемной персоной ненавистный диссидентский истеблишмент, и скандальный некогда автор описывал, как он сладостно занимался любовью «под Солженицына», обучавшего с телеэкрана американцев правильной жизни (забавное апокрифическое свидетельство неизвестно кого: один из сыновей Александра Исаевича читал запрещенный отцом лимоновский роман — в уборной, украдкой, чтоб не досталось на орехи). Да и эрос их позднего сочинительства — сходный. Солженицын все никак не мог кончить бесконечное «Красное колесо», а когда довел дело до точки, то никакой иной реакции, кроме трех фаллических восклицательных знаков в «Новом русском слове», не дождался; Лимонов же, согласно сравнению поэта, коего имя я разглашать не уполномочен, пишет сейчас так, как порой совокупляются после пятидесяти — из чувства долга, без любопытства к процессу, и художественного интереса к себе вызвать не в состоянии. Но, конечно, не в том подлинный смысл сопоставления.
Оба они — мастера жизни, вот что их реально роднит, вот в чем их действительный мессидж. Никто другой в русской словесности второй половины столетия не построил свою биографию с такой чистотою и цельностью, как два этих антагониста. В отношении Лимонова тут все ясно, но применительно к Солженицыну такое суждение должно показаться полным безумием. Что еще за биография, если все обстоятельства складывались против нее и были тотальным насилием над жизнетворческой волей и представлением? Можно подумать, он заранее программировал для себя восточно-прусский фронт, лагерную отсидку, раковый корпус, подпольное писательство, высылку. Так ведь не в этом же дело — главное, как он все это использовал.
Безвылазный пленник острожной системы, он трансформировал удары судьбы в эстетический материал, исполненный артистизма, соорудив из кусков этой жизни, бедной и грубой, творимую легенду, в структуре которой еще предстоит разобраться. Что бы ни учиняли над Солженицыным, он всякое лыко обращал в письменную строку. Вы меня убьете, а я вас потом опишу, говорил он своим мучителям и при этом хитро смеялся. Ему все время подсовывали насильственный текст, а он, покивав для порядка начальству, эти жуткие буквы втихомолку тайно соскабливал, нанося поверх них недозволенный палимпсест. Якобы подневольная биография естественным образом стала для Солженицына связной мистической повестью. В ней обнаружилась надличная правда, пугающая и губительная для слабых сердец, и только смирение автора не позволяло ему открыто поведать миру и Четвертому Риму, откуда исходил ему явленный свет, Кто держал и водил его рукой с поистине вечным пером, непреложно предназначая к писанию, обнажая значение там, где, казалось, были лишь хаотический шум, окровавленный трепет, лязг и стенание. Отсюда же — глубочайшая уверенность автора в своей правоте и та магия победительной неуязвимости, которая потрясала его врагов. Он словно заколдован, с ним ничего не может случиться, он выходит невредимым из всех переделок. Борясь и «играя», он находился в своей несомненной стихии — стихии жизнестроительства и, разумеется, получал от этой опасной игры удовольствие.
Стоит ли говорить о том, что Солженицын полюбил ужасающий материал, к запечатленью которого он был приуготовлен — нет, не людьми, не долгом, не совестью, но горнею волею? В «Архипелаге» прямо трактуется о любви, и это чувство понятно без объяснений, оно свободно и царственно, как все, что внушается свыше. К тому же Солженицын никогда не сомневался не только в историческом и провиденциальном, но и в собственно литературном и даже техническом смысле своего описательства. Русская литература являет собой готовый набор нарративных стратегий и форм — данных и заданных (других и не нужно), идеально пригодных к выраженью любого, самого каверзного содержания. Русская литература, то есть словесность по преимуществу, пребудет всегда, ибо вся она насквозь преисполнена назначения и значения, которое ни одному супостату не по силам дискредитировать и уж тем более — упразднить. Ведь это как если бы кто-то всерьез усомнился в осмысленности надличного распорядка, освященного неотменяемым заревом Заветных идей. А он этой литературы пророк и держатель.
Наибольшей свободы от монструозного материала, исторического и биографического, Солженицын, обыкновенно художественно архаичный и нечувствительный, добился в «Архипелаге» — единственно замечательном своем сочинении. Главная прелесть «ГУЛАГа» в том, что книга — чрезвычайно смешная: таковой она автором и задумана, именно в ней он раскрыл все могущество своего комедийного и саркастического дарования, всю доступную ему тонкость композиционной режиссуры, благодаря которой потрясающе монотонная летопись народных страданий предстала увлекательным чтением. Горе дошло до самого края, через край перелилось, все вокруг себя захлестнуло, и единственной освобождающей реакцией оказался смеховой катарсис. Посмеялся — и облегчил душу. Облегчился, добавил бы Салтыков-Щедрин. Между прочим, одна из этимологий «катарсиса» — очищение в самом брутальном физиологическом смысле, возможно, желудочном: это, так сказать, освобождение от пуза. Место «Архипелага» — в не слишком осознанном пока что ряду русской прозы, в котором помещается, например, «Сдача и гибель» Аркадия Белинкова и, вероятно, оказались бы и «Зияющие высоты» Александра Зиновьева — если б не помраченный, с очевидными провалами в графоманию, «логический позитивизм» последнего впечатляющего труда, испорченного к тому же несносными «кавээновско-итээровскими» юмором и сатирой. «Архипелаг» — изящное, несмотря на гигантский объем, мениппейное путешествие на край ночи, смеховая борьба с государством и глубокая благодарность ему за предоставленный уникальный материал. Это радостное сочинение, ибо автор не пожелал сокрыть от читателя переполнявший его творческий восторг. Целевая и моральная философия этого опыта художественного исследования также достаточно очевидна: ГУЛАГ уже потому имел право на существование (обладал смыслом), что стал объектом запечатленья в «ГУЛАГе».