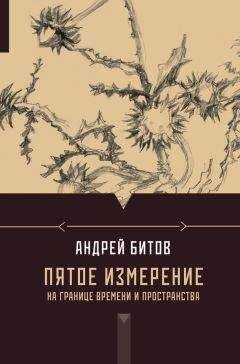«В России писатель должен жить долго…» Боюсь, эта фраза может стать столь же расхожей и удобной, как и «рукописи не горят».
И горят, и недолго.
И не должен.
1983, Тамыш
– Как он мог написать такое? Ведь он же еврей!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Я хотел бы поговорить с вами…
– О чем?
– О жизни и смерти.
Короткие гудки…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись…
Пастернак – это петрушка.
Сельдерей – еврей.
Навстречу – «вон бежит собака».
«Много собак и собака».
Переделкинская слякоть. Капля на носу. Промокшие ботинки, носками внутрь, будто перепутал их с утра. Будто бес.
Бес – такой: либеральный, порядочный, честный.
Некрасивые люди. Демократия.
«Быть знаменитым некрасиво…»
Рассказывает мне, будто сам видел черновик:
«Не надо покидать Россию…»
Рифма, во всяком случае, лучше, чем «архива».
Поступил смелее, чем написал.
Вариант!
Переделкино, 1965 – 23. 11.96, Принстон
Я и разбитое зеркало.
С. Есенин
Мысли! Кто вы?
Он так не хотел умирать! Все и вся пере<…>б.
Он, сказавший всему миру, что смерти нет.
Но – не Он!
Всего лишь Иван Ильич.
ЗСБМ. Зависть Самая Большая в Мире… К Христу.
Ревность к Отцу.
А Папа так хорошо относился… Какие выдавал Рассветы! Какие тела…
«Что это?! что это?!» – спрашивал он.
Горы.
Обнимешь свечку – засветишь тело – и снова!
Марьяша…
Ни мамы, ни папы.
Рубил череп, как капусту. Сабля тупилась.
Лишь кровь текла, как чернила.
Гордился Хаджи-Муратом, а не жалел.
Великая сила Зависти гнала вперед Энергию заблуждения.
Чувство, которого уже нет.
Иван Ильич все это лучше понимал, чем автор.
Автор… слово противное, как Шакеспеаре.
Зеленую палочку закопал.
Там его и зарыли.
9 августа 1996 года. Туман. Ясная Поляна. Череда неопохмелившихся паломников числом 168.
Пушкин, Толстой, Чехов… Как хорошо!
Русские и французские солдаты стоят друг напротив друга и ржут, что говорят не по-нашему.
Холстомер. И вдруг из тумана вышла лошадь, в белой рубахе, как Лев Толстой…
…И вздрогнул я. А было поздно.
В любой траве таился страх…
Идет босой, в белой рубахе, и косит.
Как Левин.
А сам – Смерти боится.
«Господи! За что не даешь мне веры?!»
Он так восхитительно жаден!
Неуклюжая, плоскостопая княжна Марья, которую он дефлорирует в каждой строчке, дарит брату, князю Андрею, благословляя на войну, простенький серебряный крестик. Мародер же француз сдирает у него с шеи, с умирающего на поле брани, тот же крестик, уже золотой!
Смерть Толстого потрясла Россию едва ли не с тою же силой, с какой он ее боялся.
Больше, чем анафема.
Будто русские боялись его смерти, как своей собственной. Зеркало. Зеркальце. Зазеркалье.
Единственный достоверный мемуар о Толстом, слышанный мною самолично от одной старушки, которой было в ту пору пять лет, что, узнав о смерти Толстого, она боялась ходить в туалет.
Экакий человечище!
Позор! Аллилуйя!
Рукопожатие Куприна. Воспоминание Рубцова.
Я – сто девятый в очереди.
Зато меня читают не все, а – по одному.
Я не знаю.
Я не знаю, чего от меня хотят.
«И неправдой искривлен мой рот».
Лето 1959, Кировск – 23 ноября 1996, Принстон
В 1964 ГОДУ, сразу после снятия, ленинградскому художнику Гаге Ковенчуку приснился Никита Сергеевич. Они встретились в метро. Гага очень обрадовался. «Как же так? – выразил он тут же сочувствие. – Ведь так все хорошо шло!» Никита Сергеевич был краток: «Народ у нас говно».
Подлинность этой встречи поразила меня. Мне никогда еще не снились исторические личности. Впоследствии мне неоднократно снился Иосиф Виссарионович, в Кремле, в застолье, скорбный и умный собеседник. Один раз приснился Андропов, сдержанный до застенчивости; поразила меня скромность его двухкомнатной квартирки. Два раза приснился Горбачев.
Первый сон показался мне особенно примечательным. Только-только по воцарении…
Тусклый такой зал, серое наше собрание. Все пришли как бы на всякий случай, с выжидательным, амбивалентным таким выражением на лице: кто таков? Закончив речь, то есть ничего не сказав, Михал Сергеич сошел со сцены и двинулся по проходу, сопровождаемый. А в ложах уже гудели бывшие комсомольцы: распивали открыто из-под полы, ничего не опасаясь, – демократия!
Противно стало, я тоже устремился к выходу, а там МС с народом в коридоре, на ходу, беседует, простой, как Ильич. «Народом» вдруг оказался Резо… Ну да! Ведь он посещал в Тбилиси его марионеток… Прижался я к стене, думаю: посмотрим, каков ты друг!.. Больше всего меня занимает, осмелится ли Резо познакомить меня с вождем или струсит. И вот Резо, а не я оказался на высоте – решился. «Знаю-знаю, – любезно закивал МС. – Вас моя жена любит». Я расшаркиваюсь, польщенный, и он протягивает мне руку. Рука же – в асбестовой рукавице, как у сталевара. Левая – как у людей, а правая… Хоть не ежовая, думаю. В то же время зачем? чтобы не обжечься или не обжечь?.. Так и проснулся в этом недоумении.
Пожать эту руку я сподобился лишь в 1994-м, в Берлине, когда ему вручали почетного гражданина за Берлинскую стену. Рука была уже без рукавицы, и меня разобрал смех: вот, говорю, наконец-то я вас вижу воочию… «Вот-вот! – оживленно подхватил Михал Сергеич. – И со мной точно такая же история: когда я встречаю актера, никогда сразу не знаю, видел ли я его в жизни или по телевизору!»
Я не стал его переубеждать: приятно побыть актером.
Хрущев, к которому я, со временем, проникался все большей симпатией, и Ленин, к которому я проникался все большей антипатией, не приснились мне ни разу.
В 1980 году моя дочь Анна вторично поступала в Ленинградский университет. Сочинение было камнем преткновения. На этот раз она выбрала Есенина.
Не терпелось узнать результат. Девочки выпили портвейна и стали вызывать духов. Нет, не крутили тарелку (это они не знали как), а неким своим способом: подвесили на нитке книгу (это я не знаю как). Для пробы вызвали Элвиса Пресли, и тот охотно с ними поторчал, оказался очень простой и свой, был польщен, что «рашн гёрлс» еще помнят о нем, но про Есенина «нэве хёд». Тогда девочки вызвали ВПЗР – Великого Писателя Земли Русской. Лев Николаевич тут же объявился, столь же обрадованный интересом молодежи, но страшно расстроился и рассердился, когда узнал, по какому пустячному поводу его обеспокоили: не стал больше разговаривать, вышел в сердцах. Нечего делать – вызвали самого. Сергей Александрович был сама любезность: сказал, что ему понравилось сочинение, но в нем грамматическая ошибка, он не знает какая, а поэтому будет четверка. Аня заодно поинтересовалась, встречал ли он ее любимого деда (моего отца); оказалось, они даже друзья: милый дух…
На следующий день она получила свою четверку.
Из писателей мне приснились по разу Достоевский, Чехов и Набоков.
Бродский раза два (при жизни).
Достоевского мы с Ридом Грачевым разыскали по адресу, который был записан у Рида на клочке из нагрудного кармана. В ленинградском колодце-дворе, был Ф. М. в дворницком ватнике, сердитый и небритый, все взглядывал исподлобья, будто куснуть норовил. Подозревал нас и что-то все перепрятывал в своей квартирке, что помещалась под лестницей, где метлы, ведра и лопаты, – то ли топор, то ли узелок Раскольникова с богатством старухи процентщицы. Рид ему про назначение и смысл, а он недоверчив был к литературе, думал, что мы подосланы Союзом писателей. Обиделся я: за что Лизавету?! Так и не поговорили.
Чехова видел один на один. Комнатка без окон. Вроде как в Доме ветеранов сцены. Штофные обои, снизу доверху увешанные фотографиями. Не без Станиславского с Немировичем… Он и внешне как-то между ними находился. Держался сдержанно и равнодушно. Я все подсчитывал в уме, как такое могло получиться, что он живой… вычитал из года посещения (начало 70-х…) то год его рождения, то год, в который он, по идее, умер… и вдруг – сходилось! От удивления пересчитывал снова – и опять сходилось. Погруженный в расчеты, не запомнил, что он мне сказал на прощанье. Пушкин не приснился ни разу.
1964–1996
ТЕКСТЫ ПОЭТА всегда предпочтительнее воспоминаний о нем. С одной стороны, в текстах все-таки больше (и лучше) сказано, а с другой стороны, в них нет-нет и наткнешься на самый след автора как живого человека, который только что здесь был: ощущение столь буквальное, что впору обернуться. Это чувство всегда сопровождает при чтении классиков. Нет, это не ты над ним, а он над тобой до сих пор наблюдает и усмехается сравнительно снисходительно. И так, в принципе предпочитая тексты воспоминаниям, мне пришлось недавно погрузиться в них, анализируя суеверия Пушкина. Я обложился отрицаемыми мною мемуарами и стал выковыривать свой изюм…